Русские путешествия
О путешествиях в 2020 году остаётся только мечтать, и журнал «Полка» решил помочь своим читателям объехать мир хотя бы мысленно. Ниже очень много текста, но прочтение оного того стоит.
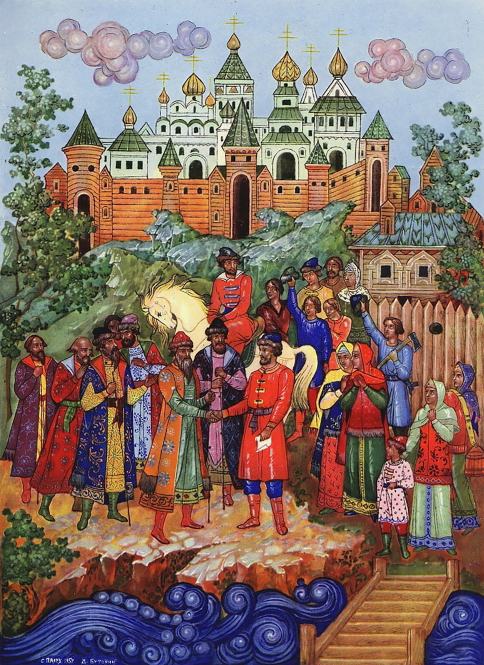
Дмитрий Буторин. Иллюстрация к книге Афанасия Никитина «Хождение за три моря». 1960 год
"Мы вспомнили самые примечательные русские травелоги — от Средних веков до наших дней. Россия — страна больших пространств, и её жителей вечно тянет в дорогу. Движет ли ими колонизаторский интерес к «цветущей сложности» других народов и культур, надежда разбогатеть, стремление к открытию неизведанных земель, обычный туризм или самопознание через путешествие — неизменным остаётся одно: стремление отправиться в путь и написать об этом книгу. Традиция русских путевых заметок, дневников и очерков поистине неисчерпаема — не претендуя на полноту, мы отобрали 77 выдающихся текстов."
Афанасий Никитин. Хождение за три моря (1469–1474)
И мужчины, и женщины все нагие да все чёрные. Куда я ни иду, за мной людей много — дивятся белому человеку. У тамошнего князя — фата на голове, а другая на бёдрах, а у бояр тамошних — фата через плечо, а другая на бёдрах, а княгини ходят — фата через плечо перекинута, другая фата на бёдрах. А у слуг княжеских и боярских одна фата на бёдрах обёрнута, да щит, да меч в руках, иные с дротиками, другие с кинжалами, а иные с саблями, а другие с луками и стрелами; да все наги, да босы, да крепки, а волосы не бреют.
В 1469 году в португальском городе Синиш на берегу Атлантического океана родился Васко да Гама, в 1474 году флорентиец Паоло Тосканелли прислал генуэзцу Христофору Колумбу карту с новым, научно обоснованным маршрутом, при помощи которого можно было достичь полной сокровищ Азии. За пять лет, которые отделяли первое событие от второго, незадачливый тверской купец Афанасий Никитин, поехавший вниз по Волге, ограбленный в районе Астрахани и в результате этого поплывший по течению в прямом и переносном смыслах, смог достичь предела мечтаний знаменитого генуэзца — чудесной Индии. Начинавшаяся буквально за окном Волга, оказывается, могла увести русского человека бог знает куда (см. также «Хождение купца Федота Котова в Персию», 1623).
«Хождение за три моря» — средневековое литературное паломничество. Такие тексты всегда строились на противопоставлении Святой земли и грешных окраин, населённых иноверцами. Впрочем, Никитин уже не считает отпавший от истинной веры Константинополь местом, достойным паломничества: единственным оплотом христианства он объявляет Святую Русь. Поэтому традиционная схема паломничества от периферии к центру перевёрнута: путешественник не приближается к святым местам, но удаляется от них, при этом овладевая «грешными» бусурманскими языками. Арабские и персидские слова, включённые в текст повести, таят в себе много загадок: у «Хождения» есть второе дно, и это тоже напоминает о его позднесредневековом контексте. Русские «хождения», в которых от первого лица излагался реальный путевой опыт разных путешественников, появились задолго до индийского путешествия Никитина, ещё в XII веке. Но книга Никитина принадлежит уже Новому времени, эпохе Великих географических открытий. В последней четверти XV века Русское государство включилось в процесс глобальной европейской экспансии, и хождения стали популярны, как никогда прежде. В Западной Европе в это же время приобрела популярность старинная повесть о святом Брендане, отправившемся за моря на поиски чудесной страны. — Ф. К.
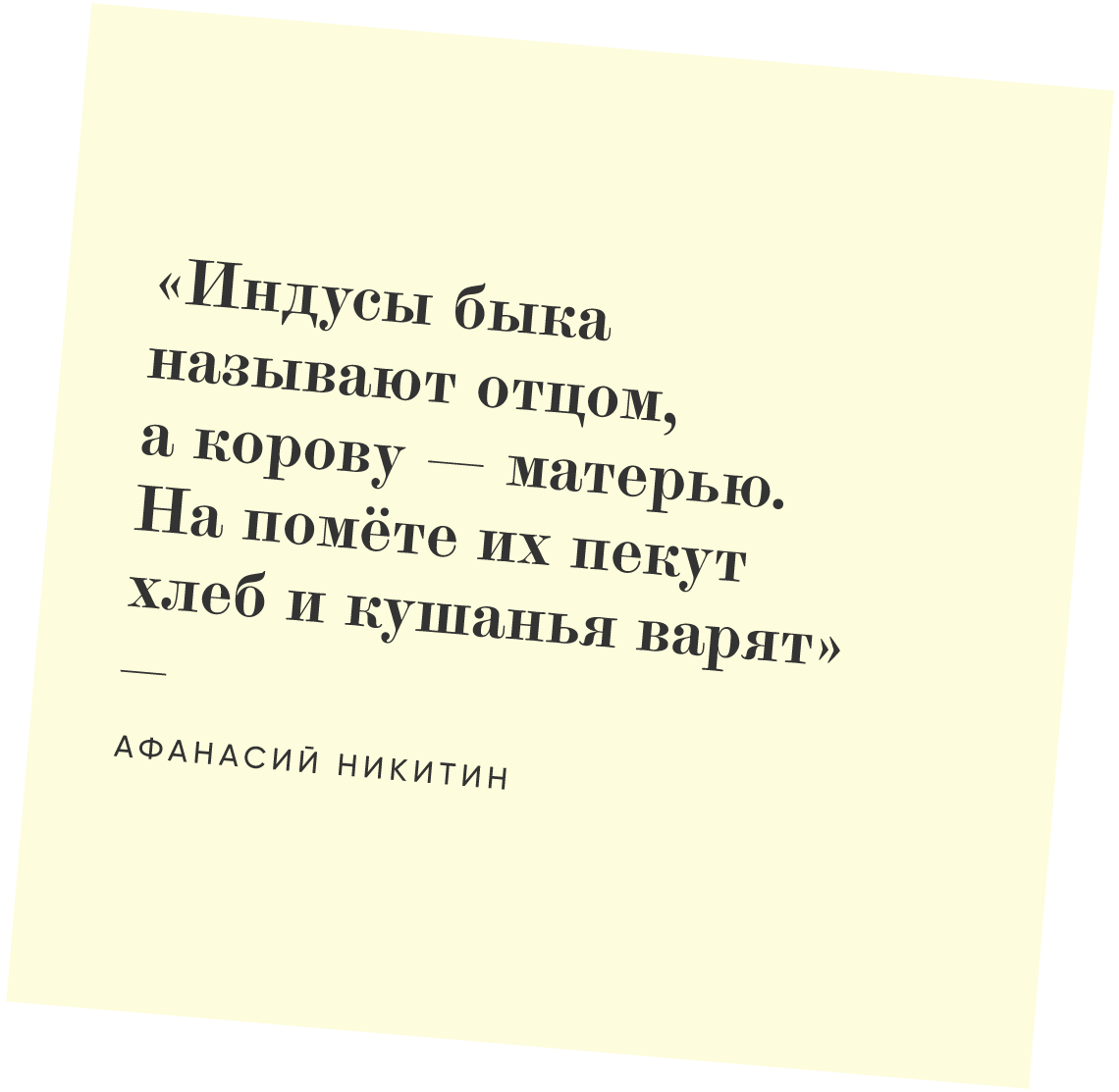
Пётр Толстой. Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе (1697–1699)
А как я взъезжал в Рим, и меня в воротах римских остановили и осмотрили у меня в сундуке по обыкновению своему вещей купецких, как у них есть обыкность всяких приезжих людей осматривать; хотя бы кто ехал великой сенатор, без осмотру в Рим проехать не может.
«По Европе» — широко сказано: маршрут стольника проходил всего-то через Польшу и Австрию в Италию. Немолодой уже царедворец в 1697 году отправился в первое в своей жизни путешествие — и в описаниях зафиксировал взгляд абсолютного неофита. В Венеции, например, его более всего потрясает, что «стен городовых и башен, проезжих и глухих, нет». Особое внимание Толстой уделяет церквям и богослужениям: сколько народу, как выглядит священник, есть ли у него борода, усердно ли прихожане молятся, на каком языке (поначалу он явно симпатизирует только греческим служителям и прихожанам). Книга, в общем, не про Европу, а про ту герметичную, изолированную от всего мира культуру, которую путешественник несёт в себе. И про то, как в нём просыпается любопытство: после первой заграничной командировки Толстой вошёл во вкус, стал дипломатом и начал выполнять всякие деликатные поручения за рубежом. В частности, выманивал из той же Италии царевича Алексея . — И. Ч.
Денис Фонвизин. Письма из Франции к одному вельможе в Москву (1806)
В сём плодоноснейшем краю на каждой почте карета моя была всегда окружена нищими, которые весьма часто вместо денег, именно спрашивали, нет ли с нами куска хлеба. Сие доказывает неоспоримо, что и посреди изобилия можно умереть с голоду.
Фонвизинские письма были напечатаны в «Вестнике Европы» в 1806 году как «остаток», последнее прибавление к корпусу текстов одного из самых почитаемых писателей XVIII века. Во Франции Фонвизин побывал в 1777–1778 годах: он оказался на родине чтимого им Вольтера, лично видел, что его чествуют почти как божество, но в письмах «одному вельможе» не предавался радикальному вольнодумству, напротив: «если кто из молодых моих сограждан, имеющий здравый рассудок, вознегодует, видя в России злоупотребления и неустройства, и начнёт в сердце своём от неё отчуждаться; то для обращения его на должную любовь к отечеству нет вернее способа, как скорее послать его во Францию». Впрочем, безоглядная русская галломания, для которой Фонвизин не увидел достаточно оснований, — явление, осмеянное Фонвизиным ещё в «Бригадире».
«Одним вельможей» был граф Пётр Панин, знаменитый полководец и брат фонвизинского начальника, дипломата Никиты Панина (вместе с которым Фонвизин написал один из первых в России проектов конституции). Ему Фонвизин предоставляет подробные отчёты о своём пребывании во Франции: изучение права и судопроизводства, наблюдение над нравами («Редкого встречаю, в ком бы не приметна была которая-нибудь из двух крайностей: или рабство, или наглость разума»), бытом города («нечистота в городе такая, какую людям, не вовсе оскотинившимся, переносить весьма трудно»), развлечениями и политическими событиями. Франция готовится вступить в американскую Войну за независимость (в Версаль прибыл Бенджамин Франклин, с которым Фонвизин встречался), но парижское население взбудоражено этой новостью лишь одни сутки: «на другой день ни о чём более не говорили, как о новой трагедии; на третий об одной женщине, которая отравилась с тоски о своём любовнике; потом о здешних кораблях, которые англичанами остановлены». Уезжая из Франции, Фонвизин не скрывал своего разочарования: «Пребывание моё в сём государстве убавило сильно цену его в моём мнении. Я нашёл доброе гораздо в меньшей мере, нежели воображал; а худое в такой большой степени, которой и вообразить не мог». — Л. О.
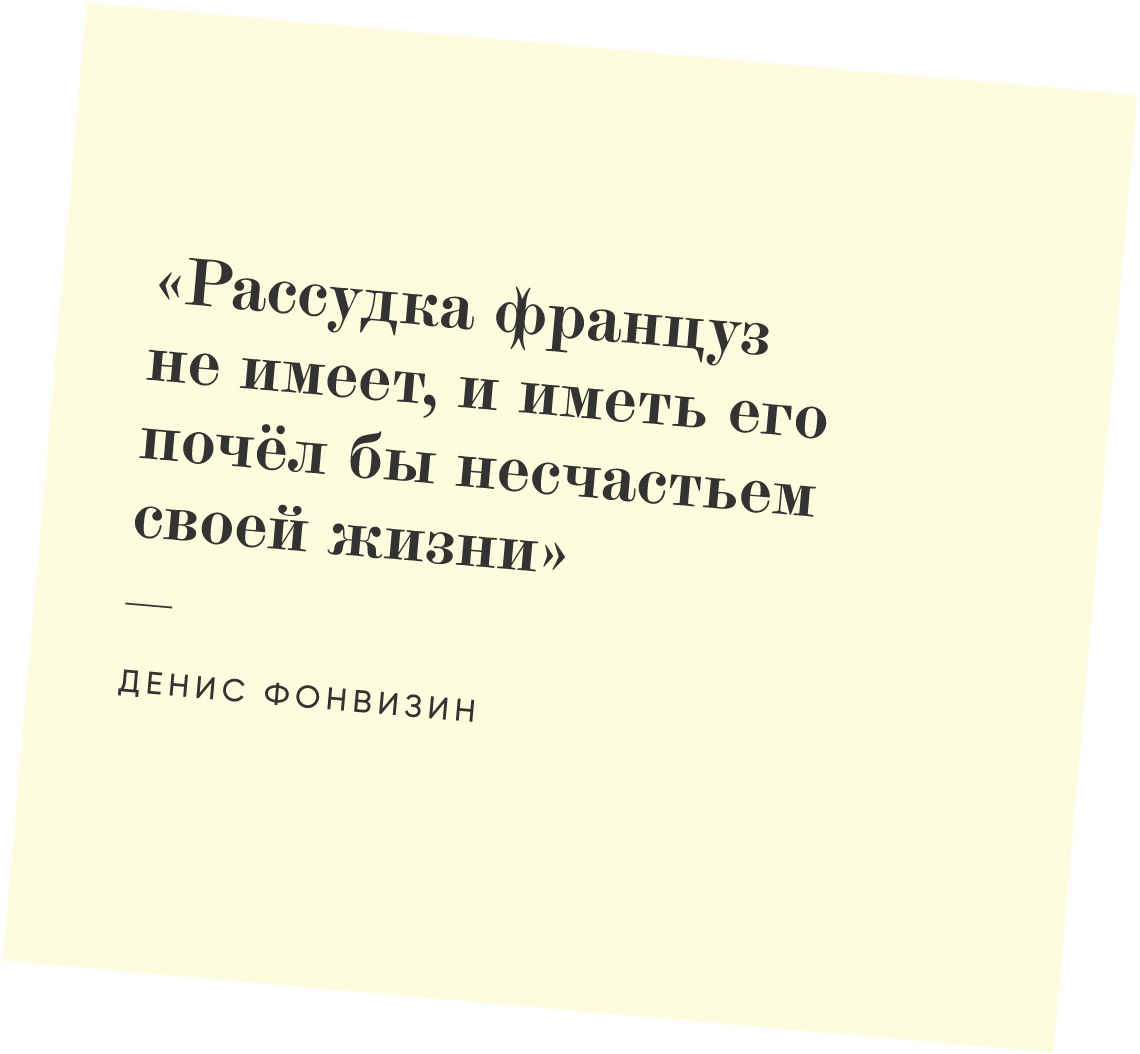
Несчастные приключения Василия Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода, в трёх частях света: в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 год (1787 )
…Банана очень сытна, оную можно есть кроме сырой солёную, варёную, печёную и жареную, и дерево сего произрастения подобно несколько видом нашему еловому дереву, а плод оного сырой вкусом как огурец, и бывает длиною в пол-аршина, толщиною не более нашего большого огурца…
Этот небольшой текст — изложение от третьего лица невероятных приключений (или, скорее, злоключений) молодого нижегородского купца, а также наблюдения над многочисленными отдалёнными местами, где ему довелось побывать. Автор «Несчастных приключений» неизвестен, а источником, скорее всего, стали устные показания Баранщикова в ходе разбирательства в Нижегородском наместническом правлении, учинённого после его возвращения на родину в 1786 году. Началось же всё с того, что герой, которого обокрали на ярмарке, поехал в Петербург и нанялся там матросом; в Копенгагене его напоили и заманили на свой корабль датчане. После этого Баранщиков побывал «в рекрутах» на Карибских островах (и, вероятно, первым описал жизнь в этом регионе на русском языке), был насильно обращён в ислам тунисскими пиратами, продан богатому турку в Вифлеем, а потом оказался в Константинополе, где прожил полтора года под именем Ислям, вынужденно женившись и поступив на янычарскую службу. В конце концов, сбежав и из Константинополя, он пешком и без денег добрался до Киева, а оттуда до Нижнего, однако там его после шести лет скитаний отправили отрабатывать накопившиеся за это время долги и недоимки по податям на «соляные варницы». Автор «Приключений», возможно, хотел привлечь внимание образованной публики к судьбе героя и собрать денег на его освобождение из долговой ямы. Хотя уже в первом издании — за ним последовали ещё два — перечисляются два десятка знатных и высокопоставленных особ, ставших «виновниками премены злополучий его во благо». — Д. Ш.
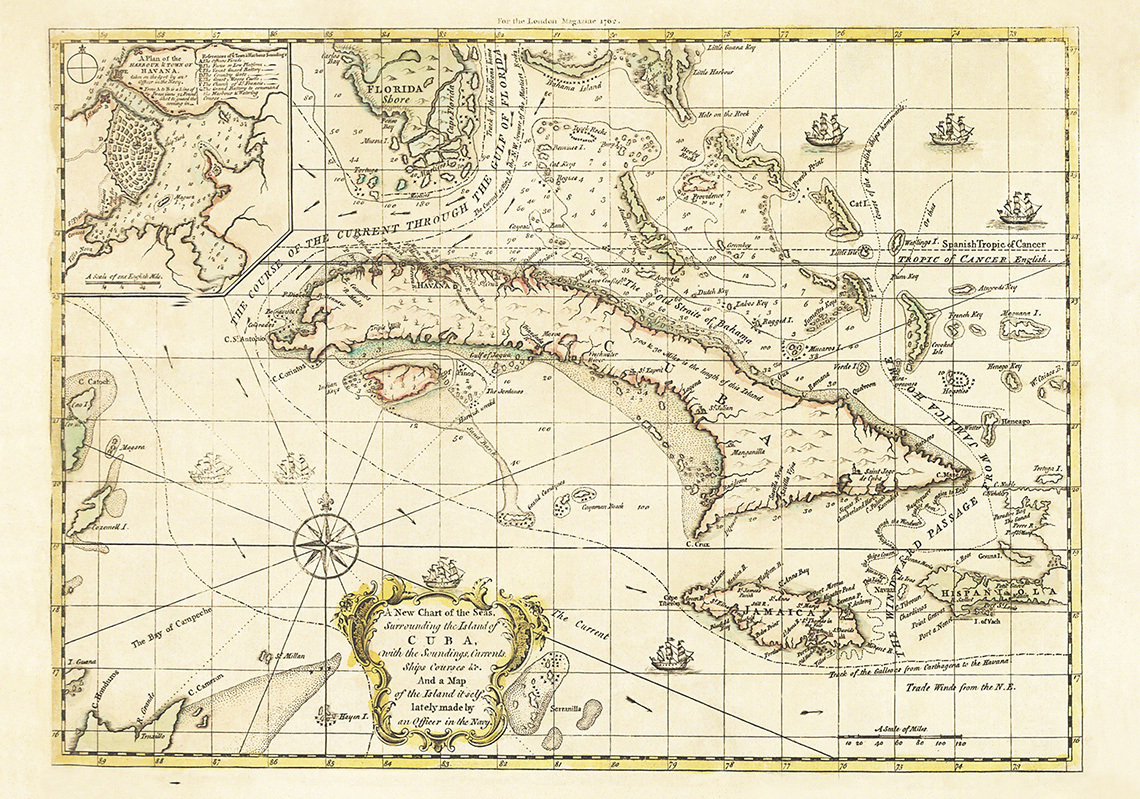
Карибские острова. Рукописная карта 1762 года

Мечеть Айя-София в Константинополе. Гравюра середины XIX века
Николай Карамзин. Письма русского путешественника (1791–1792)
...Приходи в Пале-Рояль диким американцем и через полчаса будешь одет наилучшим образом, можешь иметь богато украшенный дом, экипаж, множество слуг, двадцать блюд на столе и, если угодно, цветущую Лаису, которая всякую минуту будет умирать от любви к тебе.
В 1789 году 23-летний Николай Карамзин отправляется в путешествие по Европе, проезжает через Германию, Швейцарию, Францию и Англию и привозит домой путевые заметки, стилизованные под письма оставшимся в России друзьям. На сегодняшний взгляд, это обычный отчёт о поездке по Европе — вот Дрезденская галерея, вот оратория Генделя в Вестминстерском аббатстве, а вот окрестности Лозанны, где Руссо поселил героев «Элоизы». Но для первых читателей Карамзина это было нечто совершенно невиданное, — собственно, вся традиция заметок «русского человека на рандеву с Европой» начинается именно здесь. Карамзин — первый русский автор, выступающий с позиции просвещённого европейца: он едет в Европу не по службе и не на войну, рассказывает читателю о европейских нравах и модах, запросто наносит визиты властителям дум своего времени — Канту, Лафатеру, Гердеру и Виланду. Россия для Карамзина — не осаждённая крепость, но часть большой европейской семьи, и автора живо занимает всё, что в этой семье происходит: что нынче носят в Лондоне, о чём рассуждают в германских университетах, где лучше пить кофе в Париже (и зачем его вообще пить). Франция тем временем охвачена волнениями, и чем ближе к столице, тем чаще случайные попутчики говорят о революции. Но оказавшись в Париже, Карамзин предпочитает не заметить исторических событий, свидетелем которых невольно оказался, и ограничивается несколькими анекдотами да замечанием, что друзья его наверняка обо всём уже прочитали в газетах, — то ли из нежелания дразнить цензуру, то ли из собственного недоверия к мятежам, которым автор предпочитает общественную гармонию и благотворное действие просвещения: «Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция — отверстый гроб для добродетели». По возвращении в Россию Карамзин публикует «Письма» в «Московском журнале», который сам же и учредил по образцу парижских изданий, — и навсегда задаёт стандарт, как говорить по-русски о том, что происходит в Европе. — И. Ч.
Павел Сумароков. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году, с историческим и топографическим описанием всех тех мест (1800)
Падение Херсониса повсюду являет печальные зрелища, унылую пустыню; и там, где возрастала слава сего города, где просвещение и художества процветали, ты видишь, что ныне косят сено, пасут стада, и на развалинах его одни змеи и другие пресмыкающиеся только обитают.
Авторы европейских травелогов Нового времени, — как правило, аристократы или представители высшего слоя буржуазии — порой сталкивались с парадоксом: в школе и университете они изучали мир сквозь призму греческой и латинской книжности. Вырастая и становясь политиками, предпринимателями или колониальными чиновниками, они сталкивались не с идеальной «книжной» географией Геродота и Страбона , а с реальностью XVIII века. Уже были открыты обе Америки и даже Австралия. Старые знания приходилось как-то совмещать с географией новой, не укладывающейся в классические рамки.
Представитель славнейшего русского аристократического семейства Павел Сумароков уже не был слишком молод — ему было за тридцать. Однако он едва только выполнил программу, обязательную для молодых людей его круга: Благородный пансион при Московском университете, служба в гвардии. 1799 год был для Сумарокова паузой перед началом гражданской службы, самое время для гран-тура . Актуальная политика иногда влияла на маршруты таких путешествий: английские аристократы времён Великой французской революции, которым перекрыли пути санкюлоты и якобинцы, добирались даже до Сибири 1 , так вышло и тут. Недавние победы над Турцией открыли для русских путешественников полное античных руин Черноморское побережье, и Сумароков был одним из первых русских путешественников, написавших об этом. Книга выполнена в лучших традициях отчётов о гран-туре: осматривая древности, Сумароков не забывал и о курортных удовольствиях, посещал кофейные дома, лечебные грязи и турецкие бани… Как исследователь, конечно, но мы-то знаем! — Ф. К.
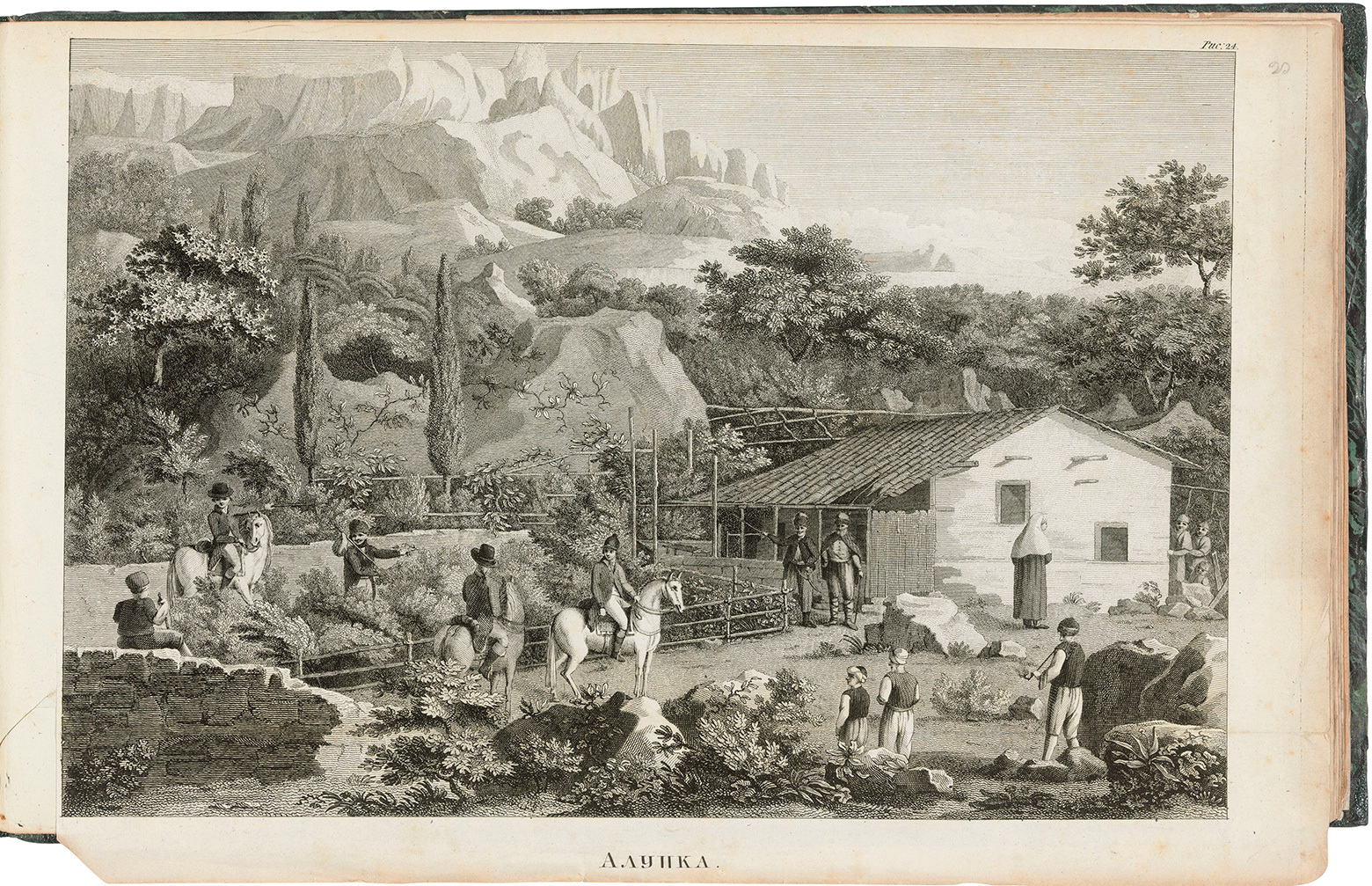
Алексей Колпашников. Алупка. Гравюра на меди из альбома ко второй части книги Павла Сумарокова «Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду». 1805 год
Гавриил Сарычев. Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану... с 1785 по 1793 год (1802)
Нет морей менее известных в нынешние времена, как Ледовитое море и Северо-Восточный океан, и нет государства, которое бы более имело причины, как Россия, оные описывать и более способов и удобностей к исполнению сего полезного дела.
«Путешествие» Сарычева — один из первых популярных русских текстов в жанре «дневных записок» (то есть дневников) о путешествии в дикие, неизведанные места. Берега «Северо-Восточного океана», в принципе известные европейцам после путешествий Беринга, Кука и Лаперуза, были изучены очень плохо, немногочисленные карты часто составлялись с чужих слов и не соответствовали действительности. Экспедиция под руководством англичанина Джозефа Биллингса была снаряжена по инициативе Адмиралтейств-коллегии и лично Екатерины Великой, плавание растянулось на восемь лет. Одной из главных его задач было описание северного побережья Чукотки от устья Колымы до Берингова пролива. Однако из-за непроходимых льдов этого сделать не удалось, и большая часть плавания прошла в районе Алеутских островов, побережья Аляски и Берингова пролива.
Дневник Биллингса по-русски опубликован не был, а «журнал» юного морского офицера Сарычева оказался настолько хорош, что адмиралтейское начальство настояло на его издании в виде книги — сам Сарычев этого делать не планировал, «потому что никогда не готовил себя в Сочинители и не имел намерения, а тем более тщеславия быть оным». Сарычева, кроме вопросов географии и естественной истории, интересуют жизнь и нравы народов, которые попадаются ему на пути — якуты, тунгусы, камчадалы (ительмены), чукчи, алеуты, «американцы» острова Кадьяк (эскимосы алутиик) — и к которым он относится с неизменным любопытством и доброжелательностью («лаской»). Даже узнав о сорвавшемся плане «американцев» перерезать всю его партию ради «бисера и корольков», Сарычев пишет об этом так: «Сии американцы все были люди молодые… и надобно думать, что заговор сей сделали против нас самые предприимчивые и дерзкие, по которым не должно заключать, что таковы и все здешние жители». Отвлечённых рассуждений у Сарычева очень мало — в основном он следует правилу, сформулированному одним русским штурманом уже в 1860-е годы: «Пишем, что наблюдаем, а чего не наблюдаем, того не пишем». Тем интереснее это читать. — Д. Ш.
Женщина Чукоцкой земли. Из «Атласа карт и рисунков к путешествию в Северо-восточную часть России и на острова северной части Тихого океана флота капитана Г. Сарычева». 1802 год
Мужчина острова Уналашки. Из «Атласа карт и рисунков к путешествию в Северо-восточную часть России и на острова северной части Тихого океана флота капитана Г. Сарычева». 1802 год
Пётр Макаров. Россиянин в Лондоне, или Письма к друзьям моим (1804 )
Частные люди весьма неблагосклонны к иностранцам. Родиться не англичанином и быть честным человеком кажется им непонятным противоречием. Думая таким образом, они принимают иностранца холодно, с видом презрения, с явным желанием уклониться от его знакомства.
С конца XVIII века, когда в России распространяется англомания, в печати множатся и лондонские впечатления русских путешественников. О Лондоне писали историк Михаил Погодин и основатель журнала «Отечественные записки» Павел Свиньин, писатель, журналист и издатель Николай Греч и многие другие, самый известный из которых — Николай Карамзин, автор «Писем русского путешественника». При этом путевые заметки часто грешили недостоверностью, что хорошо понимал русский читатель: так, в 1803 году появилась стихотворная сатира Ивана Дмитриева «Путешествие N. N. в Париж и Лондон, писанное за три дни до путешествия», посвящённая готовившемуся заграничному вояжу Василия Львовича Пушкина.
Пётр Макаров, писатель, критик, переводчик, издатель журнала «Русский Меркурий», приехал в Англию в 1795 году разорённым, «без рекомендательных писем, без товарища, не зная Англинскаго языка и без денег». Проведя некоторое время в Лондоне, Макаров пешком обошёл несколько английских графств, а вернувшись в Москву, напечатал в «Московском Меркурии» и «Вестнике Европы» свои путевые записки. Макаров не случайно заимствует у Карамзина эпистолярную форму — он пародирует сентименталистскую традицию «Путешествий», где бесконечные описания достопримечательностей — собора Св. Павла, Биржи, Тауэра или Сент-Джеймсского дворца — представляли собой пересказ немецких источников, а путевые впечатления — скорее повод к философским обобщениям. «Письма» Макарова, напротив, отличает установка на документальность и практицизм: их назначение — быть «наставником» для путешественников «посредственного состояния», а пишет он только о том, что видел своими глазами. Он не описывает зданий, монументов и статуй: по его мнению, здания в Лондоне неказисты, и «даже Дворец Королевской кажется снаружи конюшнею». Зато рассказывает, в каких кругах русскому искать знакомства, каких удовольствий и неприятностей ожидать, где лучше устроиться на постой, во что обойдётся прачка, обед и извозчик на русские деньги.
«Вам, конечно, странно покажется, что я по сию пору не гуляю по какому-нибудь прекрасному и пространному загородному парку, не сижу на мягкой, зелёной траве — при меланхолическом свете луны, под шумом искусственного каскада — не слагаю в голове своей систем о строении мира или о судьбе человечества… не рассуждаю о правлении, о министерстве, о политике, о торговле, о законах Англии», — иронизирует Макаров. Вместо того он не упускает случая познакомить читателя с профессиональным жаргоном, образом жизни и классификацией лондонских проституток и воров. Его «Письма» — любопытный прообраз современного путеводителя и одновременно литературной полемической статьи. — В. Б.
Дэниел Тёрнер. Вид с запада на дворец Ламбет. 1802 год. Йельский центр британского искусства
Иван Крузенштерн. Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева» (1809–1812)
В рассуждении обратного нашего в Россию плавания заботился я менее. Если бы во время оного и постигло нас несчастье, то сие случилось бы в морях известных, в коих каждый год бывают многие корабли разных Европейских наций, следовательно доставленная нашим путешествием польза открытиями и описаниями охранялась бы уже довольно.
Первая русская кругосветная экспедиция должна была изучить устье Амура, разведать водный маршрут для снабжения Камчатки и американских колоний и наладить торговлю пушниной с Китаем и Японией (уже два столетия правом торговать с Японией пользовались только голландцы). Экспедицию частично финансировала Русско-американская компания (РАК), недавно созданная для освоения «русской Америки»; начальником экспедиции был 32-летний морской офицер Иван Крузенштерн. С ним отправился Николай Резанов , сооснователь и представитель РАК, который был назначен послом для ведения переговоров с Японией. После остановок на Канарах, в Бразилии, на Маркизских островах, на Гавайях и в Петропавловске Крузенштерн и Резанов направилась в Нагасаки, где провели семь месяцев фактически под арестом. Переговоры кончились неудачей и запретом российским кораблям «приходить в Японию». Высадив Резанова на Камчатке, Крузенштерн возвращается к Сахалину, чтобы закончить его исследование, а затем направляется в Кантон — современный Гуанчжоу; торг с китайскими купцами также получился не очень выгодным. Из-за начавшейся войны с Францией возвращаться в Кронштадт пришлось не через Ла-Манш, а обогнув Шотландию с севера.
Трёхтомное «Путешествие» с атласом, пейзажами и «этническими типами» вышло за государственный счёт в 1809–1812 годах сразу на русском и немецком, а вскоре было переведено ещё на шесть языков. Обычно сдержанный и даже флегматичный, интересующийся больше всего отысканием новых островов и исправлением старых карт (хотя описанию нравов жителей острова Нуку-Хива посвящено немало любопытных страниц), Крузенштерн не выдерживает только ближе к концу второго тома, когда рассказывает об ужасающих условиях жизни на Камчатке и творящихся там безобразиях, и посвящает целую главу своим соображениям о том, как эту ситуацию изменить: «Камчатка конечно не есть такое место, где Офицер худого поведения мог бы исправиться. Он делается там ещё хуже и преобращается в угнетателя Камчатских жителей». — Д. Ш.

Абориген с острова Нукагива. Из «Атласа к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна». 1803–1806 годы

Нукагивские черепа. Из «Атласа к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна». 1803–1806 годы
Гавриил Давыдов. Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним (1810–1812)
Итак, мы в Америке! Итак, я ступил уже на сей дикий и почти неизвестный берег, коего толико желал достигнуть! Я видел уже толпы новых для меня племён народов, называемых дикими, по всему отличных от нас; но теперь ещё более буду иметь случай видеть их и примечать разность между человеком, озарённым светом наук, и руководимым одною природою.
Книга Давыдова располагает к себе с первого абзаца: «В один день, как я с месяц уже был болен, приходит ко мне лейтенант Хвостов и сказывает, что он отправляется в Америку. <…> Он уведомил меня также, что если и другой кто пожелает предприять сие путешествие, то компания охотно его примет. Сей случай возобновил всегдашнюю страсть мою к путешествиям, так что я в ту же минуту решился ехать в Америку». Мичману Давыдову на тот момент было 18 лет, а его другу лейтенанту Хвостову — 26. Хвостова и Давыдова наняла Русско-американская компания для доставки на Аляску продовольствия и других припасов. Добравшись за четыре месяца до Охотска сушей, они в конце августа выходят из охотского порта на компанейском судне «Елисавета» и, пройдя мимо Камчатки, Северных Курил и Алеутов, 1 ноября бросают якорь в гавани Св. Павла на острове Кадьяк, где остаются на зимовку. Хотя перед экспедицией не стояло никаких научных задач, деятельный Давыдов не терял времени даром, подробно изучив и описав остров и окружающие земли, флору и фауну, а также жизнь местного населения — эскимосов алутиик (они же «коняги»). Давыдов весьма критически относится к русским «промышленникам» на Алеутах и Аляске — не только потому, что они никудышные мореходы, но и из-за насилия и грабежей в отношении местных жителей, о чём он счёл своим долгом подробно рассказать. Летом следующего года Хвостов и Давыдов отправляются в обратный путь, который и завершают благополучно через семь месяцев, 5 февраля 1804 года, в Петербурге. На этом события, описанные в «Путешествии» Давыдова, заканчиваются, о дальнейшем мы знаем в том числе из предисловия вице-адмирала Шишкова . Через три месяца Давыдов и Хвостов отправляются в новое путешествие по тому же маршруту, но, не добравшись до Аляски, проводят показательный рейд по японским поселениям на Сахалине, попадают под арест в Охотске, сбегают из тюрьмы (каким-то образом добравшись пешком за тысячу вёрст из Охотска до Якутска) и, получив прощение, возвращаются в Петербург, где Давыдов успевает обработать и передать в печать только первую часть дневника: он и Хвостов трагически погибнут при попытке перебраться через Неву после вечеринки у товарищей по экспедиции. — Д. Ш.
Иван Долгоруков. Славны бубны за горами, или Путешествие моё кое-куда 1810 года (изд. 1869)
Вошедши в арсенал, я дал полную свободу моему восторгу. Я видел, я хватал, то самое ружьё, которое отделывала Екатерина, едучи в Херсон греметь новой славой во вселенной. На нём эпоха сия, для Тулы знаменитая, насечена золотыми буквами. Цел молоток, коим десница её дала последние удары не обработанному ещё до неё ружью. Цело то блюдо, на котором он поднесён был ей. Пусть не Екатерине точно принадлежит отделка этого ружья: она его прикоснулась — довольно! Я взглянул на него, задрожал, заплакал и прильнул к нему.
В царствование Екатерины II в результате двух русско-турецких войн Российская империя вышла к Чёрному морю. В Причерноморье возникли новые города и крепости — Екатеринослав , Херсон, Севастополь, Николаев, Екатеринодар и Одесса. Эти поселения были важны с военной, политической и экономической точки зрения, но не стоит забывать и об их символическом значении. С точки зрения аристократической культуры того времени обретение новых территорий, полных древностей, включало Россию в большую европейскую историю. За этим последовало и присоединение русской литературы к традиции европейского травелога, аристократического жанра, который в те времена строился вокруг путешествий к местам классической древности: именно с этой традицией играл Лоренс Стерн в «Сентиментальном путешествии по Франции и Италии» (1768).
Путешествие в Малороссию и Тавриду требовало не только средств, но и сети сословного гостеприимства (отелей там ещё не было). И всё равно нашему герою, путешествующему владимирскому губернатору, приходилось иногда спать в карете. Травелог Ивана Долгорукова, реалистичный, остроумный, местами прямо направленный против сентименталистов, кажется, придётся по душе современному читателю. Славны бубны за горами, а к нам придут, что лукошко — такова полная форма поговорки, означающей, что неизвестное всегда представляется хорошим. Проезжая по Украине «кое-куда», в неведомое, и ночуя во флигелях других помещиков, Долгоруков с какого-то момента «перестал понимать язык народный», но не делал из этого далеко идущих выводов о национальных различиях. В конце концов, и курские, и полтавские, и одесские дворяне, подданные одного императора, могли объясниться по-французски. Путешествие Долгорукова по Малороссии и Тавриде — прежде всего движение по сформировавшимся в XVIII веке имперским местам памяти. Полтава — место знаменитой битвы, тракт, по которому катится карета, — тот же самый, которым двигалась императрица во время путешествия в Крым, Нестор, чьи нетленные мощи он видит в киевских пещерах, — «первый наш летописец, вождь российских дееписателей». — Ф. К.

Карта Таврической губернии. 1821 год
Василий Головнин. Записки Василия Михайловича Головнина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах (1811–1813)
Японцы говорили нам, что, по их обыкновению, ничего нельзя делать вдруг, а всё делается понемногу, почему и наше состояние улучшают они постепенно; да и в самом деле, мы испытали, что японцы двух одолжений в один день никогда не сделают.
Плавание 30-летнего лейтенанта Василия Головнина начиналось в июне 1807 года как кругосветное путешествие, которое должно было продолжиться доставкой припасов в Охотск и исследованием Курильских островов и берега Татарского пролива. Шлюп «Диана» добрался до мыса Горн, но, не решившись его обходить, повернул на восток и через десять месяцев после отплытия дошёл до принадлежавшего англичанам Саймонстауна на мысе Доброй Надежды, где провёл больше года под арестом из-за начавшейся тем временем Англо-русской войны 2 . В мае 1811-го Головнину, добравшемуся всё-таки до Охотска, было поручено приступить к описи Курил, чем он и занимался до 11 июля, когда его и ещё нескольких членов команды вероломно захватили в плен японцы на острове Кунашир. Как выяснилось через какое-то время, японцы сочли «инцидент Хвостова» (рейд по японским поселениям на Сахалине, который он предпринял по поручению Николая Резанова пятью годами раньше) объявлением войны. Что именно они собирались делать с Головниным и другими, не было понятно ни пленникам, ни другу Головнина лейтенанту Петру Рикорду, который остался на «Диане» и предпринимал отчаянные попытки добиться их освобождения — о чём и повествуют его собственные «Записки» 3 , тоже очень интересные. Действуя поначалу в одиночку, Рикорд после многих неудач всё же сумел добиться освобождения пленных в октябре 1813 года.
Поскольку Япония была тогда абсолютно закрытой для западного мира страной, записки Головнина стали сенсационным источником о японской жизни и были сразу переведены на многие языки. Но интересны они не только этнографическим материалом: это ещё и идеальная история о постепенном понимании автором абсолютно чуждой культуры в обстоятельствах, грозящих ему смертью или как минимум вечной разлукой с привычным миром. Сначала у Рикорда, а потом и у Головнина даже завязываются дружеские отношения с японцем Такатаем Кахи, решившим — хотя и тоже не совсем добровольно — принять участие в его судьбе. — Д. Ш.
Василий Головнин в плену. Японская гравюра. Около 1811 года
Шлюп «Диана» под командованием Василия Головнина. Японская гравюра. Около 1811 года
Павел Свиньин. Американские дневники и письма 1811–1813 (изд. 2005)
Вообще, все животные здесь весьма благонравны, ибо никто их не раздражает. Не видят, чтоб лошадь лягнула.
Русский писатель, путешественник, собиратель русских древностей и первый издатель журнала «Отечественные записки» Павел Свиньин рассказами о своих заграничных впечатлениях заработал среди современников репутацию вдохновенного лгуна — басню под таким названием даже посвятил ему журналист и баснописец Александр Измайлов: «Павлушка медный лоб — приличное прозванье! — / Имел ко лжи большое дарованье; / Мне кажется, ещё он в колыбели лгал!»; Свиньина называют прототипом гоголевского Хлестакова.
Чиновник Коллегии иностранных дел Свиньин много путешествовал, а с 1811 по 1813 год служил секретарём русского генерального консула в Филадельфии. Как сотрудник первой российской дипломатической миссии в США, он одним из первых оставил свидетельства об американской жизни начала XIX века, причём не только письменные, но и живописные — Свиньин, окончивший Академию художеств, сделал множество акварелей и гравюр с пейзажами, видами городов и сценами американской жизни: некоторые из них он по возвращении в Россию издал книгой «Опыт живописного путешествия по Северной Америке» (1815). Помимо этого, свои американские впечатления он изложил в ряде статей, выходивших с 1814 по 1829 год сперва в «Сыне отечества» , а затем в «Отечественных записках» .
Но куда больший интерес представляют дневники Свиньина, напечатанные впервые только в 2005 году и явно не предназначавшиеся для печати («Был у девок. Очень хорошенькие и чистенькие, и, кажется, та, которую я взял — очень здорова! Плачу ей по 10 долларов»). Несмотря на ярое славянофильство, русский путешественник без устали отмечает преимущества американской жизни: «Конечно, из числа блаженства и вольности, коею наслаждается сия республика, есть безопасность и свобода путешественников. Проезжая все Соединенные Статы от одного конца до другова и никто не остановит тебя, никто не имеет права спросить: кто ты? куда? и зачем? Пошли мальчика 5 лет в карете и он безопасно проедет всё сие пространство; нигде его не обманут, нигде не притеснят, не обойдут». Его интересует быт, промышленность, судоходство, торговля, национальный характер жителей США, флора и фауна. Одно из главных его впечатлений — стимбот, то есть пароход: «Это есть барка, движущаяся парами, не имеющая нужды ни в парусах, ни в попутном ветре и презирающая всякую погоду. <…> Кроме скорости весьма покойно, словно в комнате. Завтрик и обед прекрасный». Он возмущается развязности служанки, которая садится в присутствии нанимателя, но удивляется «справедливому понятию о вещах последнего гражданина, что относится и ко всей Америке. Сын первого банкира идёт в одну школу с сыном беднейшего подёнщика». Так же двойственно его отношение к чернокожим: «Для меня ничего не может быть отвратительнее, как видеть маленьких негров, особливо девчонок, кои беспрестанно встречаются: словно чертенята!» — пишет он с простодушным расизмом, но тут же живо сочувствует мулату, которому не позволено сесть в карету и обедать вместе с белыми пассажирами: «Чёрные в большом здесь пренебрежении. А, вероятно, он заплатил такие же деньги, как и другие пассажиры». — В. Б.
Владимир Броневский. Записки морского офицера в продолжение кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год (1818–1819)
Журнальные новости для англичан стихия, столь же необходимая, как и воздух. Все утро занимаются политическим прением, и даже дамы столь твёрдо знают географию, что могут показать на карте место всякого сражения и изъяснить план и движения войск.
В 1805 году Россия, вступившая в войну с Францией в составе третьей антинаполеновской коалиции , отправила военную эскадру в Средиземное море. Эскадра дважды одержала победу в боях с союзниками Наполеона, турками, при Дарданеллах и Афоне. Для мичмана Владимира Броневского этот поход затянулся: «...Был я на большей части островов Архипелага и Далмации, обозрел Сицилию, Мальту и Сардинию, возвратился от Дарданелл в Лиссабон и, наконец, в третий раз прошед Гибралтарский пролив, отправился из Триеста сухим путём чрез Каринтию, Штирию, Венгрию и Польшу обратно в Кронштадт. Таким образом, обошед Европу, видел я лучшие её страны, знаменитые происшествиями, славные своими древностями, просвещением и науками; я вёл ежедневные записки о тех событиях, коих был очевидец, и о том, что казалось мне достойным внимания и любопытства».
А любопытства Броневскому было не занимать. Морской офицер в своих записках ожидаемо уделяет много внимания военным действиям. Он описывает устройство военного корабля, правила навигации, и в самом его слоге профессия даёт о себе знать: «В сём путешествии сельдей представляется для наблюдателя зрелище столь любопытное, толико же и удивительное. Впереди армии их идёт авангард, в центре главного корпуса находится король, который отличается от прочих величиной, простирающейся до аршина. Сей король управляет всеми движениями, и обыкновенно в море плывут сельди фронтом; когда же придётся проходить им пролив, тогда свёртываются колонной».
Тем не менее интересы Броневского простираются далеко за пределы военно-морской тематики. Его интересуют природа, быт, экономика, история и литература всех посещаемых мест: «В двух милях от Гельзинора находится небольшой Королевский домик с плоской крышей. Сказывают, что оный построен на том месте, где жил Гамлетов отец, а ближний сад был местом, где сей несчастный отравлен ядом». Говоря о британской политической системе, он спорит с Тацитом, восхищается судом присяжных, не забывая описать портсмутские витрины; на Сардинии посещает шёлковую фабрику и отмечает удивительное механизаторское решение: «Зала уставлена несколькими десятками самопрялок, на коих сучат и разматывают шёлк. Отгадайте, кто их вертит так скоро? Индейки, петухи и куры». Загнанных птиц сменяют новыми и отправляют в трактир — они считаются вкуснее убитых. Пишет Броневский, возможно, «неправильно» (как полагал Бестужев-Марлинский), но неизменно увлекательно. Как говорит сам автор — «Новость предмета вознаградит негладкость слога». — В. Б.
Алексей Боголюбов. Афонское сражение 19 июня 1807 года. Фрагмент. 1853 год
Пётр Словцов. Письма из Сибири (1826)
Итак, не для древних кладов, не в надежде отрыть старинные металлические безделки и не на смену Миллера и Фишера, которые лет за 75 сюда являлись с резцом истории, я пришёл теперь по перлам утренней росы. Нет, я пришёл для идеала красоты, чтобы при восходе солнца насладиться утренним освещением Искера, насладиться пышным, царским видом с этой вышины и обогреться воспоминанием загородных сюда прогулок в кругу тобольских приятелей…
Пётр Словцов вошёл в энциклопедии как первый сибирский историк, хотя к историографии он обратился только на закате своих дней. Точнее было бы назвать его универсальным интеллектуалом, воспитанным на идеалах Просвещения. За годы, проведённые в Сибири, куда он возвращался не раз и не вполне добровольно, во многом благодаря отнюдь не безобидной для тех времён политической позиции образованного человека, ему пришлось побывать и преподавателем, и юристом, и географом, и чиновником, и поэтом. Путевой дневник отставного чиновника Словцова был составлен в 1826 году во время путешествия из Иркутска в Тобольск. Стиль его отсылает не только ко всем перечисленным выше статусам, но и к эволюции большой европейской литературы, проделавшей за время жизни этого писателя путь от сентиментализма к романтизму. Изящнейшее описание сибирского гнуса, разговор с впавшим в деменцию стариком-барабинцем , чьё бессмысленное бормотание показалось автору «языком нового красноречия», виды почтовых станций и сибирских городов. Иногда во всём этом приложении античных exempla и старомодной риторики к сибирским комарам чудится ирония, но, скорее всего, её там нет. Ненамеренный Стерн вперемешку с Гофманом на берегах Бирюсы и Енисея — так это, пожалуй, можно определить. — Ф. К.
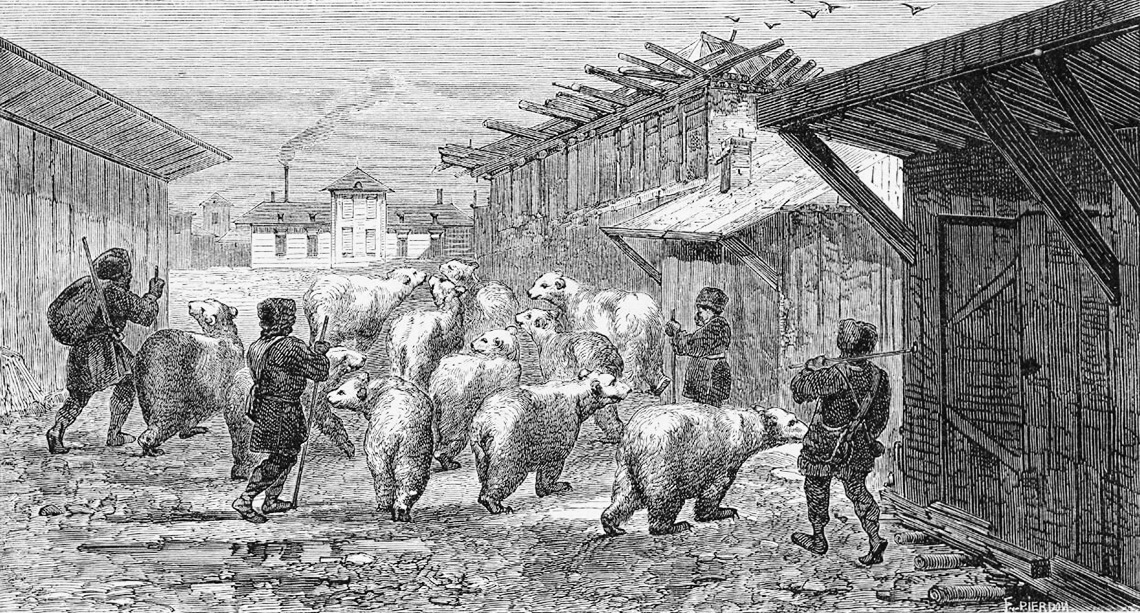
Пастухи гонят стадо медведей в Сибири. Рисунок из альбома «Россия XIX века глазами иностранцев». 1862 год

Почтовая станция. Рисунок Михаила Знаменского. 1862 год
Фёдор Литке. Четырёхкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершённое по повелению императора Александра I на военном бриге «Новая земля» в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах флота капитан-лейтенантом Фёдором Литке (1828)
Пустота, нас тут окружавшая, превосходит всякое описание. Ни один зверь, ни одна птица не нарушали кладбищной тишины. К сему-то месту можно по всей справедливости отнести слова стихотворца:
И мнится, жизни в той стране
От века не бывало.
Фёдор Литке дважды ходил в кругосветные плавания — сначала под командой Василия Головнина, а десятью годами позже начальником экспедиции. В промежутке он четыре лета подряд ходил к архипелагу Новая Земля и описывал побережье Баренцева моря — русскую Лапландию, от Белого моря до границы с Норвегией. Новая Земля, к которой северные «промышленники» на протяжении столетий ходили за морским зверем, была известна очень плохо, в основном по описаниям Баренца, который в конце XVI века сумел обогнуть Новую Землю с севера. Из-за непроходимых льдов Литке так и не удалось повторить это достижение и определить координаты самой северной точки, которую Баренц назвал мысом Желания; однако он успешно описал и нанёс на карту весь западный и часть восточного берега, а также пролив Маточкин Шар. Литке крайне обстоятельно излагает мельчайшие подробности плавания и описывает каждый островок, каждую бухту и каждый пролив. Людей в этих суровых краях экспедиция встречала нечасто, поэтому каждая встреча становилась событием, подробно и часто с юмором описанным в книге, — будь то знакомство с вечно подвыпившими архангельскими лоцманами, с «кольскими морошницами», играющими с матросами в горелки на пустынном побережье, или с промышленниками-самоедами (ненцами) на двух карбасах , которые долго не останавливались из-за того, что в жизни не видели такого огромного корабля (один из них, как потом выяснилось, бывал когда-то в Архангельске и успокоил товарищей, сообщив им, что «бывают корабли ещё побольше нашего и что на них ходят такие же, как они, люди»). — Д. Ш.
Фаддей Беллинсгаузен. Двукратные изыскания в Южном ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжении 1819, 1820 и 1821 годов… (1831)
В сей мрачной суровой стране кажется, будто сердце человеческое охладевает, чувства сближаются с окружающими предметами, человек бывает пасмурен, задумчив, некоторым образом суров и ко всему равнодушен, но, напротив, под чистым небом и благотворным влиянием всё оживляющего светила, взирая на разнообразные красоты природы, наслаждается её дарами и чувствует всю их цену.
В 1800-е годы Фаддей Беллинсгаузен участвовал в кругосветном плавании Крузенштерна, а в 1819-м возглавил собственное: ему было поручено «осмотреть те части Южного океана, в которых никто ещё не бывал», продолжая свои изыскания «до отдалённейшей широты, какой только он может достигнуть». В результате ему удалось открыть Антарктиду, не подозревая об этом: он первым смог увидеть берег (точнее, шельфовый ледник) континента и рассказать об этом миру. Этот момент описан у него так: «…Мы увидели, что сплошные льды простираются от Востока чрез Юг на Запад; путь наш вёл прямо в сие льдяное поле, усеянное буграми. <…> В сём месте уже не было никакой возможности продолжать путь далее на Юг». Впрочем, путешествие Беллинсгаузена и его дневник интересны далеко не только эпичным четырёхмесячным плаванием среди айсбергов и туманов. Маршрут пролегал через Тенерифе и Рио-де-Жанейро, где он среди прочего наблюдал и описал ужаснувшую его торговлю живым товаром («мерзостным» Беллинсгаузен называет не сам факт работорговли, а то, как она происходила в лавке, которую он посетил: «осмотр, продажа, неопрятность, скверный запах, происходящий от множества невольников, и наконец варварское управление плетью или тростью, всё сие производит омерзение к бесчеловечному хозяину лавки»). Уже после «открытия» Антарктиды Беллинсгаузен, зайдя в Сидней и ещё не колонизированную Новую Зеландию (к отчёту прилагается описание и даже изображение маорийского ритуального танца хака), «обрёл» около дюжины атоллов в нынешней Французской Полинезии, дав им имена вроде островов Аракчеева, Князя Волхонского и Графа Милорадовича.
В экспедиции, вопреки обыкновению, не было натуралистов, поэтому офицеры сами тщательно описывали попадавшихся им медуз, пингвинов и буревестников (которых они назвали «морскими Жидами… ибо… птицы сии не имеют постоянного места, а скитаются по Океану во всех широтах»), а судовой врач занимался таксидермией. Беллинсгаузен среди прочего особо заботился о здоровье, гигиене, благополучии и хорошем настроении своих людей: «Кому неизвестно, что весёлое расположение духа и удовольствие подкрепляет здоровье, напротив скука и унылость рождают леность и неопрятность, а от сего происходит цынготная болезнь». После смерти Беллинсгаузена, на тот момент 73-летнего адмирала и военного генерал-губернатора Кронштадта, на его столе нашли записку следующего содержания: «Кронштадт надо обсадить такими деревьями, которые цвели бы прежде, чем флот пройдёт в море, дабы на долю матроса досталась частица летнего древесного запаха». — Д. Ш.
Павел Михайлов. Вид острова Маквари с перешейка с северо-восточной стороны. 1821–1824 годы
Александр Бестужев-Марлинский. Письмо к доктору Эрману (1831)
Бьюсь об заклад: не угадаете, нe заглянув на подпись, откуда приспело это посланиe, истыканное как Русская сайка и за тридцать шагов пахнущее адом!
Писатель-романтик и декабрист, Марлинский даже ссылку в Якутию и службу рядовым солдатом на Кавказе превратил из наказания в байроническое приключение. По форме это действительно письмо. Адресат его — немецкий физик, географ и ботаник Георг Адольф Эрман, с которым Бестужев познакомился в Якутии. После той встречи учёный отправился через Камчатку на Аляску, писателя перевели на Кавказ. Откуда он и отправляет привет своему учёному другу.
Читателю, который знает весь этот бэкграунд, травелог Бестужева может показаться парадоксальным. Каторжник, отправленный на войну, описывает красоту Лены весной, сибирские виды, якутские морозы. Но главное — гордый и вольный Кавказ: можно подумать, что никакой войны тут вовсе нет, просто забросили романтика в горы — и он их описывает со всей пылкостью. А ещё строит прожекты: достаточно пролить на жителей гор «елей просвещения», и они станут ровно такими же, как русский поэт и немецкий учёный. Лирику Марлинский смешивает с физикой: рассуждает не только о видах и характерах, но и магнетизме, солёности вод Каспия, образовании гор Кавказа, справляется между делом о природе Камчатки и льдах Аляски (ещё русской, конечно). — И. Ч.
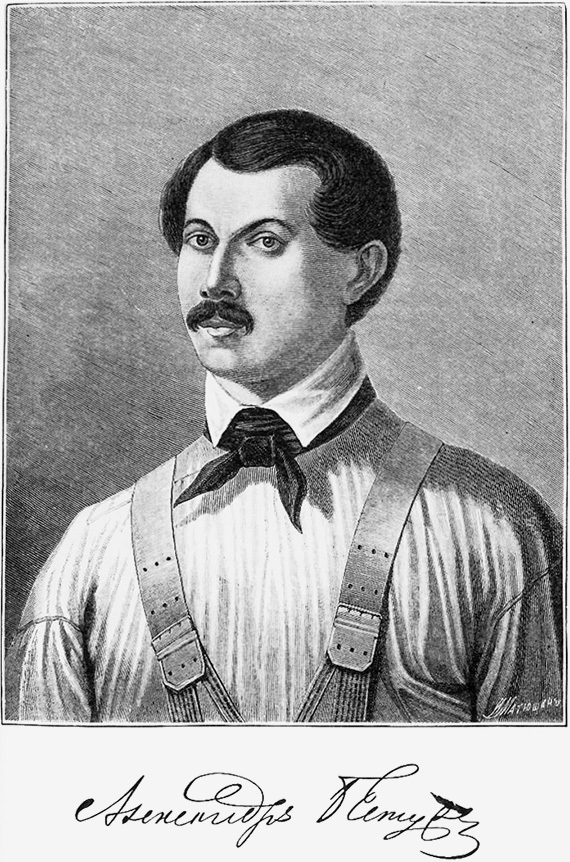
Александр Бестужев-Марлинский. Гравюра Георгия Грачёва с акварельного рисунка неизвестного автора. 1889 год

Франц Рубо. Взятие Эривани русскими войсками. 1827 год
Александр Пушкин. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года (1835)
Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружьё его слишком долго было заряжено. Что делать с таковым народом?
В мае 1829 года, после неудачного сватовства к Наталье Гончаровой, Пушкин отправился на Кавказ. К тому моменту поэт уже не раз просил разрешения поехать за границу — но его не выпускали. Так что поездка на Кавказ, где в тот момент происходила война с Турцией, была для него возможностью хоть в каком-то виде, пусть и ненадолго, выехать из страны (русские войска заняли турецкую территорию — она и становится финальной точкой путешествия). Даже разрешения властей не потребовалось: формально Пушкин отправился проведать младшего брата, служившего в армии. Да и сами власти были не против: они явно рассчитывали, что в результате путешествия Пушкин напишет что-то во славу русской армии.
Их ожидания не оправдались: никаких текстов о ратных подвигах поэт не написал. А «Путешествие» публиковал только спустя семь лет, в 1836 году. Да и книга получилась не о войне, а в первую очередь о Кавказе вообще. О характерах местных жителей («черкесы нас ненавидят») и завораживающих видах, которые открываются с гор. О тифлисских банях, вине и современниках (самое известное — о Грибоедове, обоз с телом которого Пушкин будто бы встретил в горах). Из зарисовок и наблюдений Пушкин создаёт всю будущую обязательную программу описаний региона: свободолюбивые горцы, завораживающие виды, грузинское вино, воды-источники. Наконец, главный топос Кавказа: горы как приют любого романтика. Место вдохновения и — одновременно — опасных приключений. Начиная с «Путешествия» Кавказ таким и будет в русской литературе: и у Лермонтова, и у Искандера.
«Путешествие в Арзрум» можно читать и как эссе о колониализме, о покорении местных народов русскими, которые их не понимают и понимать не желают. Едва ли не самый красноречивый отрывок, посвящённый этой теме, — описание аманатов, пленников, которых русские войска отпустили на волю и бросили: «Они ходят в лохмотьях, полунагие и в отвратительной нечистоте. <...> ...Аманаты, выпущенные на волю, не жалеют о своём пребывании во Владикавказе». России, по Пушкину, Кавказа не понять — местные обычаи и жизненный уклад нам кажутся варварскими, колонизация же не приведёт ни к чему, кроме встречной агрессии.
Что же до «военных» глав, то они скорее дополняют основной текст — исследователи даже полагают, что Пушкин в качестве материала использовал не собственные наблюдения, а литературу (в частности, произведения Бестужева-Марлинского). — И. Ч.
Рисунки Александра Пушкина к «Путешествию в Арзрум». 1829 год
Василий Колесников. Записки несчастного, содержащие путешествие в Сибирь по канату (1835, изд. 1869)
Главный предмет, обративший наше внимание, выглядывал из-за строений вдали на левом конце города — огромное каменное здание с четырьмя башнями; это губернский тюремный замок, в стенах которого мы готовились провести несколько дней… Как нас повели, по грязным каким-то улицам, наперёд к этапному командиру, весь народ следовал за нами с приметным любопытством и в глубоком молчании...
В 1835 году декабрист Владимир Штейнгель , находясь в ссылке в Петровском Заводе (ныне Петровск-Забайкальский), записал рассказ портупей-прапорщика Оренбургского гарнизона Василия Колесникова, в 1827-м сосланного в Сибирь за принадлежность к тайному обществу. Как ни печально, без текстов, подобных этому, история русского травелога будет неполной. Описание пути в Сибирь — непременная часть, обычно вводная и довольно короткая, многочисленных русских мемуаров о пребывании в штрафной колонии. Рассказ Колесникова — один из немногих текстов, в которых это путешествие описано детально. Другие подобные репортажи de profundis , такие как «Разбитая жизнь» уголовного преступника Коваленко (рассказ о ссыльном путешествии 1873 года, опубликованный в 1900-м) или «По тюрьмам и этапам» политического Ивана Белоконского (1883, опубликован в 1887-м), изображают сибирскую ссылку как привычное зло. Колесников же повествует о своём опыте как о чём-то новом и для тюремщиков, и для арестантов 4 . Старый полковник плачет, провожая осуждённых, кузнецы не могут заковать их в кандалы с первого раза, вид товарищей, наряженных в «дурацкие шапки», вызывает у рассказчика не ужас, а смех. Все первые главы книги ссыльные бесконечно прощаются — проводить их в Сибирь со слезами на глазах выходит весь Оренбург.
В деле Колесникова был замешан (к сожалению, как провокатор) будущий автор другого сибирского травелога — Ипполит Завалишин. Согласно Колесникову, он был совершенно невыносимый тип. Его отправили в Сибирь вместе с жертвами его доносов, те обращались с ним соответственно, и он вёл себя как изгой: «Когда мы легли спать и только что начали забываться, нас разбудил звук цепей: Завалишин прыгал между нарами. Таптиков первый сделал на него окрик, но тот отвечал с сердцем: «Вы хотите спать, а мне хочется танцевать галопаду». — Ф. К.
Фаддей Булгарин. Летняя прогулка по Финляндии и Швеции, в 1838 году (1839)
Стокгольм со стороны озера чудесен! Удивительное местоположение! Здесь каждый должен быть художником и поэтом в душе.
Булгарин остался в истории литературы персонажем отрицательным — доносчик, жёлтый журналист, графоман, оппонент всех классиков разом, от Пушкина до Некрасова. При этом он был не только сотрудником «Северной пчелы» и злоязыким фельетонистом. Булгарин сочинял фантастические повести (про Россию в XXIX веке, например), мистические рассказы, писал вообще много и во всех мыслимых жанрах. В том числе создал этот путеводитель — открывший для русской литературы Скандинавию, пусть и окраинную: север Эстонии, Финляндию, Швецию.
«Летняя прогулка» — именно что неспешный идиллический променад вдоль берегов Балтийского моря. Успокаивающие описания природы, бушующих волн, ганзейских городков и крепостей. Пароходы прекрасны, виды завораживают, морские купания освежают. Ручей в Везенберге (нынешнем Раквере) «имеет привилегию лобызать струями своими прелести красавиц». Воспевает Булгарин и мудрость правителей, за что над ним издевались все, кто мог: описывая Хельсинки, он не устаёт напоминать о том, как похорошел заштатный шведский городишко, войдя в состав России.
Из общего ряда эти туристические заметки выводит запал первооткрывателя — автор не лукавит, когда сетует на недостаток внимания к Балтике: Финляндию присоединили к России за тридцать лет до написания книги, там бывали только русские военные, а Эстонию проезжали по дороге в Европу. Так что Булгарин действительно впервые описывает по-русски балтийские крепости и замки, шведскую культуру и быт («обедают без супу и с сладкими соусами»). А высокопарность его слога искупается искренним желанием найти подходящие слова для описания этой земли. — И. Ч.
Портрет Фаддея Булгарина из Энциклопедии Брокгауза и Ефрона. 1890 год
Вид Стокгольма. Литография из книги «Летняя прогулка по Финляндии и Швеции, в 1838 году». 1839 год
Пешеходная опись части русских владений в Америке, произведённая лейтенантом Лаврентием Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 годах (1847–1848)
Впрочем, опрятность здесь понимают: посуду и руки женщина перед стряпаньем моет в квашеной человеческой урине, потом обливает водой или обтирает снегом. Мы не научили их приготовлять и употреблять мыло и потому не можем осуждать, что от грязи они очищаются по-своему.
К 1830-м годам русские колонии на побережье материковой Аляски и ближайших островов находились в кризисе: приносившие баснословные прибыли «морские бобры» (каланы) были почти полностью истреблены, а численность местного населения, то есть рабочей силы, сократилась на порядок из-за оспы и боевых действий. Поэтому Русско-американская компания решила продвигаться вглубь материка, на земли, заселённые малоизвестными народами, у которых можно было выменивать пушнину — бобра, выдру, соболя. Загоскин, 30-летний лейтенант флота, служивший до этого на Каспии и Балтике, добрался морем из Ново-Архангельска (Ситки) до редута Св. Михаила, самого северного русского «заселения» на берегу залива Нортона. Проведя там несколько месяцев, в декабре 1842 года он отправился на восток — исследовать реки Квихпак (Юкон) и Кускоквим и обширные земли между ними. Экспедиция, передвигавшаяся зимой на собаках, а летом на байдарах, заняла почти два года. Её дневник интересен не только как хроника борьбы за выживание в крайне суровых условиях — тридцатиградусные морозы, отсутствие карт местности, необходимость ежедневно добывать пропитание, опасения относительно намерений местного населения («неприятельских столкновений с туземцами осмотренного нами края мы не имели, стараясь предупреждать всякий повод к неприятности где лаской, где строгостью и всегда неусыпной бдительностью»). Загоскин подробно рассказывает о жизни, торговых связях и сложной социальной организации коренных народов — эскимосов-юпиков и атабасков-танаина. Особенно красочно он описывает шаманские камлания, «вечеринки» и «игрушки» (представления): «Во время пляски ттынайцы с места не сходят, гнутся, перегибаются, корчатся так, что иные чубами достают землю. Неимоверная быстрота их воинственных, угрожающих телодвижений, какое-то исступление, овладевающее постепенно всеми до того, что у некоторых глаза как бы выпрыгивают из своих орбит, рот кривится, всё лицо принимает особенное зверское выражение, — заставляли нас не раз в первую зиму держать свои пистолеты на втором взводе». — Д. Ш.
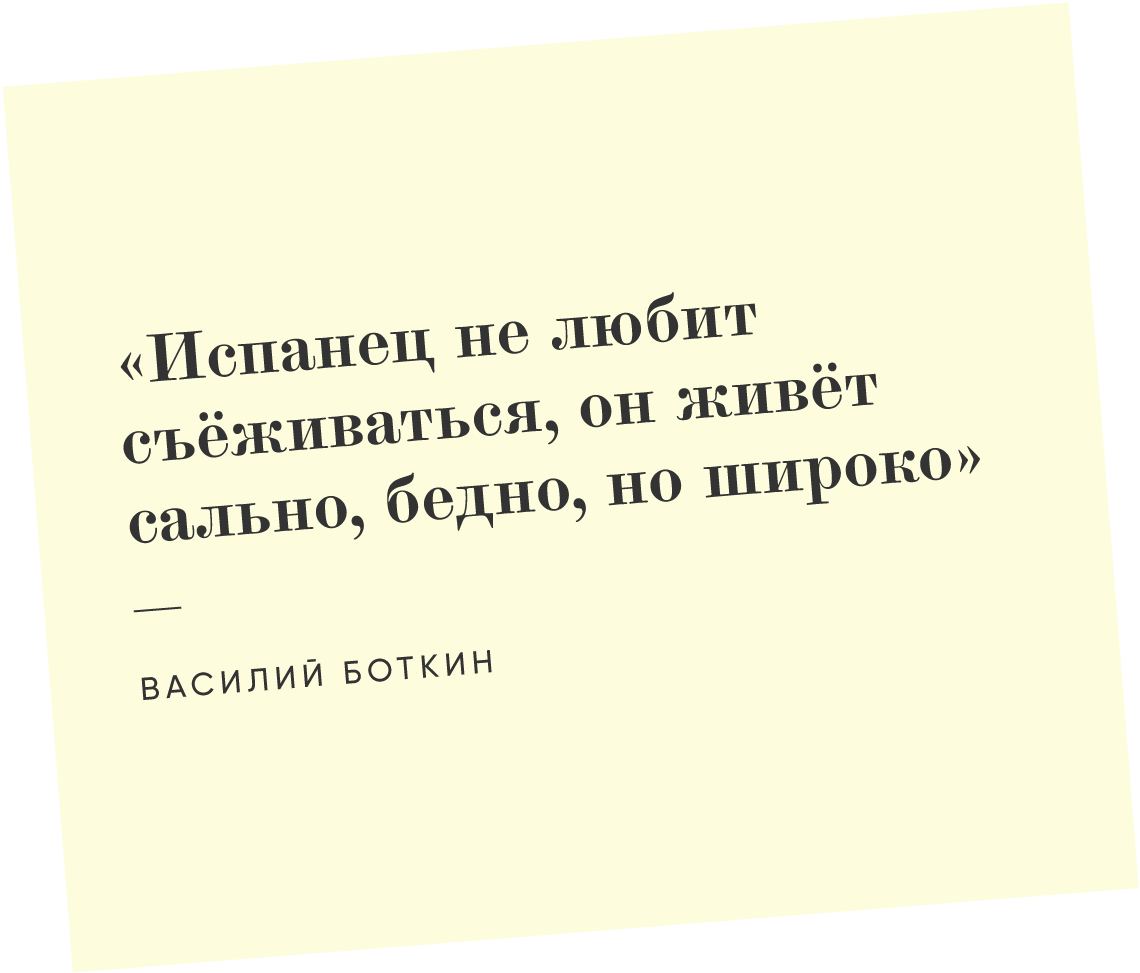
Александра Ишимова. Каникулы 1844 года, или Поездка в Москву (1846)
Я описываю тебе, милая сестрица, все города, которые мы проезжаем, с такою подробностью, что, я думаю, журнал мой может служить твоим детям вместо географического урока.
В отличие от Поволжья, Урала или Сибири, которые были открыты для массового путешественника и путевого очерка только во второй половине XIX века, когда появились пароходы и паровозы, Тверской край, расположенный на дороге из Петербурга (и Новгорода) в Москву, был постоянным героем травелогов с XVI столетия. С наступлением паровой эры Вышний Волочёк, Торжок и Тверь, наоборот, начали пропадать из литературы. Подготовленный тверскими краеведами четырёхтомник «Тверь в записках путешественников» (2012–2015) свидетельствует, что регион активно описывался в травелогах сороковых годов XIX века и практически исчез из них в пятидесятые. Путешественники из Петербурга в Москву теперь ехали поездом и подробностей пути больше не видели. Справедливости ради надо отметить, что в конце XIX века Тверь вновь начала появляться в травелогах о волжских круизах, но это другая история.
Записки Александры Ишимовой — один из последних текстов, посвящённых почтовому тракту из Петербурга в Москву. Профессиональная деформация этой писательницы, прославившейся «Историей России в рассказах для детей» (1837), сказалась и на её травелоге. Она не могла успокоиться даже на каникулах и по дороге в Москву писала сестре письма, которые та должна была читать своим детям («право, скучно писать, когда никто не будет читать написанного»). Основной темой писем были встречавшиеся на пути достопримечательности, преимущественно исторические, но Александра Осиповна была слишком хорошей писательницей, чтобы превратить своё сочинение в скучное дидактическое пособие. Главное удовольствие этой книги — уютные подробности старинного дорожного быта и разнообразные благопристойные приключения: «Проезжая одну деревню мы увидели несколько девушек и мущин, которые пели хороводную песню и презабавно кружились под голос ея. Николай Дмитриевич рассказывал в это время что-то очень серьёзное, и вот при виде весёлой толпы, он вскричал: «А! да что это, полно учиться! Запоём-ка лучше и мы песню, или будем любоваться прекрасным вечером!» — Ф. К.
Мост через реку Тверца. Из альбома «Виды Николаевской железной дороги». 1864 год
Василий Боткин. Письма об Испании (1851)
По пустынным равнинам подъезжаешь, наконец, к Мадриту, который стоит тут бог знает зачем, потому что среди этих пыльных, совершенно обнажённых полей решительно нет никакой причины стоять не только столице, даже ничтожному городишке.
«Письма» Василия Боткина — первая русская книга, написанная по непосредственным впечатлениям об Испании (автор побывал там в 1845 году). Как отметил в своей рецензии Николай Чернышевский, до Боткина «большая часть русских читателей воображали эту страну каким-то громадным цветником», садом лимонов и лавров под окном пушкинской Лауры. В действительности Испания — суровая земля, выжженная «африканским» солнцем, с редкими, буйно цветущими оазисами, такими как Гренада. Путешественник не находит там ничего похожего на фантазии русских, прочитавших Шиллера, зато находит бесконечное разнообразие: «В Испании каждая провинция имеет свой костюм; а здесь их 40 провинций!»
Боткин знал испанский язык, был знаком с испанской литературой, историей и политикой. Под свои наблюдения он подводит любопытную историческую теорию. Полное презрение к ремёслам и любому труду, упадок культуры и экономики он объясняет многовековой войной испанцев с маврами и трёхсотлетним политическим произволом: «Кому охота работать, когда плоды трудов истребляются или похищаются?» Русский путешественник страдает от вездесущего пахучего оливкового масла и не может есть гаспачо, которое сравнивает с окрошкой, описывает природу и архитектуру, политическое бурление мадридских кофеен и прелесть андалузской женщины, жестокость корриды, во время которой он едва не падает в обморок — у него, по презрительному выражению испанцев, «сердце из сливочного масла», как у всякого европейца.
Испания — не Европа, неправильно рассматривать её в европейском контексте — вот главное наблюдение Боткина. В его описании она предстаёт почти другой планетой. В Кордове он жадно ищет следы мавританской культуры и сокрушается об её упадке — в одной арабской Испании было семьдесят публичных библиотек. Вообще, «Письма об Испании» не только читаются как фантастический роман, но и обнаруживают свободу мышления даже по меркам сегодняшнего дня: «Читая историю арабов... нельзя без глубокой скорби видеть, как умный, исполненный терпимости народ, в высшей степени промышленный, многосторонняя образованность которого начинала уже изменять строгую и сухую догму исламизма, побеждается и изгоняется варварскими, фанатическими испанцами; как обработанная, богатая, населённая страна предаётся в жертву инквизиции и становится пустынею». — В. Б.
Альфред Гесдон. Вид с воздуха на Мадрид с Пласа-де-Торос. 1854 год
Кирилл Горбунов. Портрет Василия Боткина. 1840-е годы. Государственный Эрмитаж
Михаил Авдеев. Поездка на кумыс (1852)
Если вам скажут: поезжайте в Баден-Баден или в Эмс, вы и едете или в Баден-Баден, или в Эмс, вы приедете туда, наймёте квартиру, пригласите доктора и в большом обществе, среди удобств жизни и весёлостей исполняете предписание врача. Но вам скажут: «Поезжайте на кумыс». — «Куда, доктор?» — «В Оренбургскую губернию». Но Оренбургская губерния велика!
Поволжье превратилось из глухой периферии в пространство регулярных коммуникаций в 1840–60-х годах. В самом начале этого периода в русскую литературу въехал «Тарантас» Владимира Соллогуба (1840). Герои этой повести ехали в вымышленную деревню Мордасы Казанской губернии на этнографической повозке, изобретённой в тех же местах, где-то под Казанью. Именно тарантас обслуживал экспансию Российской империи в восточном и юго-восточном направлениях всю вторую половину XIX века, до прихода в Азию железной дороги. Заметки о поездке на кумыс, опубликованные петербургским писателем Михаилом Авдеевым в журнале «Отечественные записки», ознаменовали новую стадию освоения Поволжья — рекреационную. Первые кумысолечебные санатории в Поволжье открылись в 1854 и 1858 годах, но «дикарём» люди начали ездить «на кумыс» несколько раньше. Авдеев описывал как раз эту неорганизованную эпоху, связанную с возникновением класса, который хотел ездить в санатории, но не мог позволить себе Баден-Баден, и с устройством транспортной инфраструктуры, которая могла доставить этих людей в возникающие прямо на глазах отечественные здравницы.
Авдеев ехал из Санкт-Петербурга до места назначения восемь дней. До Москвы — поездом, до Нижнего — на почтовой карете, в Казань — пароходом, а от Казани в степь на тарантасе посредством так называемых вольных почт — учреждения, позволявшего избежать утомительного ожидания лошадей на каждой станции. Все эти вещи были введены в строй буквально за несколько лет до путешествия Авдеева, регион едва открылся для русской литературы. Поездки «на кумыс» продолжались ещё долго. В них не раз, например, бывал Лев Толстой (1862, 1871, 1873). И всё же это было доступно далеко не всем. Примерно во времена поездок Толстого сибирский художник Михаил Знаменский выпустил книгу карикатур «Моя поездка на кумыс: клубные сонные грёзы» (1875): в ней чиновник вообще никуда не ехал и устроил себе бюджетный «кумыс» дома — обыденная жизнь чиновника-сибиряка при помощи остроумных иллюстрированных метафор уподоблялась поездке в экзотические степи. — Ф. К.
Дневник Василия Николаевича Латкина, во время путешествия на Печору, в 1840 и 1843 годах (1853)
Какая польза была бы для бедных жителей края, если б на берегах Печоры основалась торговая фактория с предприимчивостью и капиталом! Получая огромные выгоды от предприятия, она оживила бы край — и тогда о печальном былом осталось бы одно грустное предание. Пожелаем, чтобы это совершилось.
Путевой дневник Василия Латкина интересен прежде всего своей географией. Это Печорский край, территория нынешних Архангельской области, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Эти места сейчас не назовёшь популярным маршрутом, если вы не исследователь ГУЛАГа, — а в 1840-е годы там можно было передвигаться почти исключительно по рекам в окружении дремучих лесов, непроходимых болот и комариных полчищ, время от времени перетаскивая суда волоком на десятки вёрст от одной реки к другой. Латкин был простым усть-сысольским купцом, предпринимателем, не получившим никакого формального образования, но искренне радевшим за экономическое развитие России. Полагая, что одна их главных проблем состоит в оторванности богатой ресурсами Сибири от европейской России, он хотел найти удобные водные пути между бассейнами Печоры и Оби. Собирался он и разведать возможность заложить в устье Печоры новый порт для экспорта леса (это случилось только спустя почти столетие, когда был построен Нарьян-Мар). Всё это Латкин предпринял в надежде среди прочего поднять собственное выгодное дело, но дневник его полон большой любви и интереса к Печоре, к её неброским пейзажам, медленно открывающимся за изгибами какой-нибудь Колвы, Мылвы или Низьвы, и к её немногочисленным жителям, находящимся в постоянной борьбе за выживание, будь то русские крестьяне, остяки-ханты, зыряне-коми или самоеды-ненцы. — Д. Ш.
Спасская улица в Усть-Сысольске. Вид с пожарной каланчи. 1900-е годы
Пётр Семёнов-Тян-Шанский. Путешествие в Тянь-Шань в 1856–1857 годах (1907, изд. 1946)
Проезжая в своём детстве и юности сотни и даже тысячи вёрст по чернозёмной России, я никак не мог себе представить, что такое гора, так как видел горы только на картинках и готов был относиться к ним как к художественным вымыслам, а не как к действительности.
Отец русской географии Пётр Семёнов вырос в Рязанской губернии и впервые увидел горы лишь на третьем десятке, когда отправился в Берлин учиться геологии. В 1853–1855 годах, слушая университетский курс в Европе, Семёнов подружился не только с великими основателями современной географической науки — Александром фон Гумбольдтом и Карлом Риттером , — но и с великими европейскими горами, став заправским альпинистом. На один только Везувий он взошёл семнадцать раз. После окончания Крымской войны Российская империя, установившая протекторат над жузами Казахстана, возобновила свою экспансию в Среднюю Азию, и Семёнов оказался одним из активных участников этого процесса. Ставки были высоки: последним географом, который побывал на Тянь-Шане до 1856 года, был китайский путешественник седьмого века.
Хотя Семёнов руководствовался только научными мотивами, его путешествие имело важные политические последствия — не зря он был награждён, как великие полководцы «времён очаковских», топографической приставкой к фамилии. Путь к сиявшему розовым сумеречным блеском пику Хан-Тенгри был связан с постоянным нешуточным риском для жизни. Российский «министр ботаники» (так прозвали на берегах озера Иссык-Куль странного чиновника, интересовавшегося цветами и деревьями) оказался вовлечён в войну двух пограничных киргизских племён, предпринимал свои горные экскурсии во главе целого войска, спасал девушек и освобождал из плена союзников. «Про меня рассказывали, что я имею в руках маленькое оружие (пистолет), из которого могу стрелять сколько угодно раз». Один из лучших писателей-географов, Семёнов-Тян-Шанский составил мемуары о своём главном путешествии на восемьдесят первом году жизни, а опубликовали их ещё на сорок лет позже, в 1946 году. Сцена прощания с Тянь-Шанем, куда автору больше не суждено было вернуться, — одно из самых волнующих мест в книге. — Ф. К.
Иван Гончаров. Фрегат «Паллада» (1858)
Я только не понимаю одного: как чопорные англичанки, к которым в спальню не смеет войти родной брат, при которых нельзя произнести слово «панталоны», живут между этим народонаселением, которое ходит вовсе без панталон?
«Фрегат «Паллада» — уникальное для русской словесности произведение. С одной стороны, книга продолжает традицию русских кругосветок. С плаванием Крузенштерна она связана даже сюжетно: главной задачей начальника экспедиции вице-адмирала Путятина была очередная (и на сей раз удачная) попытка установить торговые отношения с Японией. К началу плавания в 1852 году Гончаров уже популярный писатель, автор «Обыкновенной истории». В экспедиции он оказался по роду службы — он был столоначальником в департаменте внешней торговли Министерства финансов и выполнял функции секретаря Путятина — но «Фрегат «Паллада», конечно, нельзя назвать классическим путевым журналом. Наблюдение дальних стран и чужих нравов часто заставляет автора отвлекаться на глубоко личные размышления — в том числе о милой его сердцу родине («мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют её!»). В то же время это лёгкая, изящная и на удивление смешная проза. Гончаров подчёркивает комизм собственного положения: дневник кругосветной экспедиции ведёт «ленивый и избалованный» 40-летний кабинетный чиновник и писатель, чей опыт путешествий заключался в нескольких поездках между Симбирском, Москвой и Петербургом. В самом начале, между Кронштадтом и Портсмутом, фрегат попал в сильный шторм; путь занял три недели вместо нескольких дней, на борту случилась вспышка холеры и стала заканчиваться провизия и вода — Гончаров, хотя и выяснил, что по крайней мере невосприимчив к морской болезни, даже думал сойти в Англии, но всё же передумал. Ремонт фрегата занял два месяца, что дало возможность Гончарову с большим интересом и наблюдательностью описать Лондон — больше его уличную жизнь, чем «сфинксов и обелиски». После Лондона экспедиция заходила на Мадейру, острова Зелёного Мыса, мыс Доброй Надежды (кажется, это первое и чуть ли не единственное подробное описание колоний Южной Африки на русском языке в XIX веке), остров Ява, в Сингапур, Шанхай, Нагасаки, на Ликейские острова (Рюкю), нынешние Филиппины и в Корею. В августе 1854 года, через полтора года после начала экспедиции, Гончарова высадили в недавно построенном порту Аян на Охотском море (сейчас это Хабаровский край), откуда ему пришлось добираться в Петербург сушей. Дорога с длительными остановками в Якутске, Иркутске и Симбирске заняла ещё полгода, и её описание — тоже очень интересное чтение. Позднее Гончаров говорил об этом опыте так: «Вы в письме своём называете меня героем, но что за геройство совершать прекрасное плавание на большом судне… Нет, вот геройство — проехать 10 500 вёрст берегом, вдоль целой части света, где нет дорог, где почти нет почвы под ногами, всё болота; где нет людей, откуда и звери бегут прочь». — Д. Ш.
Фрегат «Паллада» в Нагасаки. Рисунок японского художника. 1854 год
Карло Боссоли. Вид на Лондонский Сити с берега. XIX век
Сергей Максимов. Год на Севере (1859)
Видятся отдельные льдины, неподвижные окраины берега, тёмные полосы воды и кругом безлюдье и дичь, которая как будто тоже приготовилась смотреть и слушать. Страшна казалась эта мрачная даль, хотя и была она полна жизни дикой, своеобычной.
Мы остановились, проводник мой оговаривается при этом:
— Ну, уж дальше ехать нельзя: дальше небо досками заколочено и колокольчики не звонят…
После неудачной для Российской империи Крымской войны Морское министерство решило реформировать набор во флот и организовало «литературную экспедицию», чтобы исследовать рыболовство и судоходство прибрежных областей страны. Изучать водные артерии империи отправили лучших писателей — Александр Островский проехал Волгу от Твери до Нижнего Новгорода, Алексей Писемский исследовал нижнее течение реки и побережье Каспия, Михаил Михайлов — реку Урал. Молодой писатель Сергей Максимов, к моменту начала экспедиции известный лишь «физиологическими очерками» о вожаках медведей, малярах и повитухах, отправился на Север России, в Архангельскую губернию. В итоге Максимов не только опубликовал цикл очерков о поморах, но и нашёл своё призвание, став одним из основателей российской этнографии и фольклористики.
Максимов провёл «в поле» целый год, с февраля 1856-го по февраль 1857 года, и проехал от Мурманского берега до далёкого Пустозерска. Местные жители принимали Максимова за большого начальника и не могли поверить, что он приехал всего лишь посмотреть, как ловят рыбку. У него был талант cходиться с людьми («с этаким-то начальством мы не прочь хоть всё лето ездить»), да и борода в этом старообрядческом регионе оказалась очень полезной. А самое главное — Максимов оказался отличным наблюдателем, не упускавшим тончайших деталей, например языковых. В этом путешествии он, кажется, впервые услышал слово «нежить» — «собирательное понятие о всяком духе народного суеверия: водяном, домовом, лешем, русалке, обо всём, как бы не живущем человеческою жизнью». Впоследствии русская нежить стала его любимым предметом — opus magnum Максимова называется «Нечистая, неведомая и крестная сила» (1903). — Ф. К.

Поморы. Фотография Николая Шабунина. 1906 год
Архангельский порт. Открытка 1896 года
Панорама Архангельска. Конец XIX века
Чокан Валиханов. Очерки Джунгарии (1860)
В последнее время город этот начал приобретать известность совсем другого рода. В нём появились башни из человеческих голов, начали резать людей так же обыденно, как режут кур. «Трудно, — говорит народная песня, — содержать в кашгарском городе лошадь, потому что связка сена стоит 12 пулов, но ещё труднее сохранить голову, потому что вай! вай!» Это несколько странное окончание песни выражает то запуганное состояние, в каком находится здешний народ.
Этот человек, воплощавший собой парадоксы империи, был одновременно и настоящим европейцем, и настоящим азиатом. Потомок Чингисхана, друг Потанина и Достоевского, офицер российской армии и первый казахский учёный Чокан Валиханов, до поступления в Омский кадетский корпус живший в степи и не знавший русского языка, за свою короткую жизнь создал несколько подлинных шедевров русской этнографической прозы. Прочтения заслуживают все путевые дневники Валиханова, успевшего поработать среди киргизов на Иссык-Куле и среди китайцев в Кульдже (1856), однако особенную его славу составили тексты, связанные с опасным путешествием в Кашгар — закрытый от европейцев караванный город, располагавшийся между хребтов Тянь-Шаня, на соединении зон влияния Британской, Российской и Цинской империй. Сейчас это не менее запретный, чем тогда, Синьцзян-Уйгурский район Китая.
Идея этого путешествия принадлежала открывателю Тянь-Шаня Петру Семёнову, который познакомился с Валихановым в Омске в 1856 году. Человек европейской внешности не имел никаких шансов пробраться незамеченным в Кашгар, в котором на протяжении нескольких лет царил взаимный уйгурско-китайский террор. Официально цели путешествия, конечно, формулировались как научные, «Очерки Джунгарии» — это статья из научного журнала, однако Валиханов был военным человеком, у России были в этом регионе стратегические цели, и вёл он себя как настоящий разведчик. Перед въездом в город, опасаясь досмотра, лжекупец зарыл в землю первый из кашгарских дневников и отрыл его только через полгода. В «Очерках Джунгарии» описана первая часть этой эпопеи, путевые дневники о пути в Кашгар и о пребывании в Кашгаре изданы отдельно, а подробное описание региона дано в статье «О состоянии Алтышара, или Шести восточных городов китайской провинции Нан-Лу» (1861, 1904). — Ф. К.
Пётр Кропоткин. Сибирские тетради (1862–1866)
Теперь я плыву на пароходе «Граф Муравьёв-Амурский»; плыл бы хорошо, но у капитана белая горячка, — бросался в воду два раза. Едва спасли саженях во ста; поэтому довольно беспорядка, всё неладно.
Прежде чем эмигрировать в 1876 году и стать теоретиком анархизма, князь Пётр Кропоткин многое успел на родине. Окончив Пажеский корпус, он не остался служить камер-пажем в Петербурге, а немедленно подал прошение о зачислении в Амурское казачье войско и летом 1862 года выехал в Читу — ему не исполнилось и 20 лет. Интерес к географии и геологии появился у него во время службы в Забайкалье: по поручению военного начальства он много ездил по Восточной Сибири и Приамурью и даже участвовал в нескольких небольших экспедициях — в Маньчжурии, на пароходе по реке Сунгари, по Восточным Саянам, по рекам Олёкме и Витиму. Эти экспедиции он описывал в научных и служебных отчётах, а также в очерках, которые посылал в столичные журналы. А вот дневник Кропоткина явно не предназначался для печати — он написан рубленым, иногда конспективным языком, без всякого стеснения в выражениях. В нём много едких и иногда циничных описаний провинциальной светской жизни в Иркутске, Чите и Благовещенске, жутковатых историй о плохо заканчивающихся попойках, криминальной хроники, анекдотов о самодурстве местных чиновников и невёселых сцен из жизни крестьян-переселенцев, бурят, монголов и нанайцев. Несмотря на свою мизантропию, Кропоткин мечтает принести пользу всем этим людям, но, кажется, единственное, что его по-настоящему радует и придаёт ему сил, — это дальневосточная природа. — Д. Ш.
На Амуре. Рисунок Петра Кропоткина. 1863 год
Пётр Кропоткин. 1864 год
Ипполит Завалишин. Описание Западной Сибири (1862)
Этот дикий эдем — смерть. Это то, что называют в Сибири «зыбун». Не только зверопромышленник, но и лесной зверь никогда не отваживается ступить на этот обманчивый ковёр цветов и такой восхитительно свежей зелени. Его сейчас, как говорится, «всосёт», потому что под дёрном бездонное болото глубины необычайной... Чем больше человек или зверь делает отчаянных усилий, тем более углубляется и смерть неизбежна...
Ипполит Завалишин, оказавшийся в Сибири после восстания декабристов, по отбытии ссылки жил в Тобольской губернии, путешествовал и публиковал очерки в губернской прессе. Современники воспринимали записки Завалишина скептически: сама возможность публиковать в газете собственные впечатления, да ещё иногда критические, казалась консервативному сибирскому читателю того времени чем-то возмутительным (тем более что Завалишин был известным на всю Сибирь кляузником, постоянно писавшим начальству). Либеральные сибиряки припоминали ему, что в прошлом он был одиознейшим полицейским провокатором, отправившим в Сибирь множество людей и себя самого в придачу 5 . И консерваторы, и либералы любили уличить его в плохом знании материала. Тем не менее запискам Завалишина принадлежит исключительная роль в истории популярного географического знания — он стал первым журналистом, писавшим о Сибири «изнутри», с местной точки зрения. Старомодная гладкопись его стиля не должна смущать читателя, Сибирь его очерков — не статистические справки, но картины, написанные с натуры весьма внимательным наблюдателем. При всём внешнем спокойствии очерков кляузника Завалишина в них вполне различимы очертания колониальных драм и конфликтов, о которых будут писать впоследствии его критики. — Ф. К.
Географические карточки Тобольской губернии. 1856 год
Фёдор Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях (1863)
...В западном человеке нет братского начала, а, напротив, начало единичное, личное, беспрерывно ослабляющееся, требующее с мечом в руке своих прав.
Достоевский ведёт дневник своего первого европейского путешествия 1862 года. Обычный гран-тур : Германия, Франция, Британия, Швейцария, Италия. Только пишет он не о том, где он был и что ел, а с чем ехал, о чём мечтал и что в итоге получил. Конечно, это делает «Заметки» хроникой разочарования. Кёльнский собор похож на пресс-папье, немцы слишком чопорные, Берлин сильно смахивает на Петербург (стоило ли вообще куда-то ехать?). Париж наводнён скучающими буржуа, хозяева гостиниц составляют подробнейший портрет постояльцев и записывают их рост, цвет волос и глаз. Местные жители только и ждут от каждого приезжего восторга по поводу красивейшего города на свете и его отважных и умных обитателей. Наконец, главе о Париже Достоевский даёт характерное название «Ваал» . В Лондоне многовато разврата и грязи (хотя все страшно рассудительные и правильные — у Достоевского к англичанам вообще особые чувства). А ещё там суета — метро (Достоевский называет его чугунками), Хрустальный дворец, грязная Темза, угольная пыль и толпы повсюду.
Драматургия «Зимних заметок» — напряжение между ожиданиями, чаяниями воспитанного на европейской культуре человека и разочарованием от визита в настоящую Европу. Вкратце — «я думал, там пишут книги и картины, а там, оказывается, едят и ходят по улицам». В итоге современники — а в особенности потомки — восприняли «Зимние заметки» как своеобразный манифест русского почвенника, который гораздо духовнее развращённых европейцев. Он их культуру воспринимает и делает своей, а они её даже не замечают. Но сильнее любой идеологии — стиль Достоевского: постоянные одёргивания самого себя и отступления, во время которых автор спохватывается и просит прощения за то, что не рассказывает о Европе, а философствует. — И. Ч.
Якоб Сутер. Вид на руины Уншпуннен. 1861 год

Кёльнский собор. Фотография неизвестного автора. 1880-е годы. Музей фотографического искусства, Сан-Диего

Больница Отель-Дьё в Париже. Фотография Шарля Марвиля. 1867 год
Константин Станюкович. Очерки кругосветного плавания (1867)
Вы, любезные читатели, спокойно сидите в это время в тёплых комнатах, ведёте беседы приятные... хорошо вам, но вспомните иногда, слушая заунывный стон ветра, долетающий до вашего слуха, — вспомните, что есть люди — моряки, которые в это время, испытывая все невзгоды, заняты борьбой со стихией, да подчас такой грозной, что за сердце хватает.
Именно что заметки, короткие наброски и этюды главного русского писателя-мариниста о кругосветном путешествии, которое он совершил в юности, будучи моряком. О Бресте и острове Мадера, об африканской тропической жаре и соблазнах китайских портов. И в первую очередь о матросских типах: как и прочие книги Станюковича, «Очерки» по большей части составлены из хлёсткой прямой речи героев. Оказываются в Африке — и резюмируют: «Арап — отродье Хама, как сказано в Ветхом Завете». Из Китая привозят знание, что «китаец косу носит, язычествует и крыс ест». А главное — матрос ничему не удивляется и, где бы ни оказывался, скучает по родной деревне.
Cамое ценное в «Очерках» — интонация. Сказовая (первая же фраза — «птицей райскою засвистал в дудку боцман»), неспешная, иногда высокопарная — но в целом складывается ощущение, что это устный рассказ старого моряка о дальних странствиях и приключениях. Именно такое устройство текста сделало Станюковича одним из лучших авторов приключенческих книжек — с описаниями суровой моряцкой жизни, деталей корабля, далёких портов, нравов экзотических стран и всяких природных чудес. — И. Ч.

Эдвард Джон Пойнтер. Фуншал, Мадейра. 1877 год
Николай Пржевальский. Путешествие в Уссурийском крае (1870)
Станешь ли пить чай или есть что-нибудь, все наличные манзы тотчас же обступят кругом, смотрят в самые глаза и беспрестанно просят то того, то другого, а иногда даже и сами берут, пока не припугнёшь их как следует.
Хроника первой из многочисленных азиатских экспедиций знаменитого Николая Пржевальского: от Байкала к берегу Японского моря. Конечно, она впечатляет богатейшей фактурой. Дальний Восток здесь дикая земля, покрытая лесами, где водятся тигры; населён он коренными народами: корейцами, китайцами, орочами, гольдами. Но не ради экзотики стоит читать этот отчёт для Русского географического общества.
В травелогах Пржевальского научная обстоятельность и лаконизм сочетаются с удалью приключенческого романа. О вещах, интересных только специалистам, Пржевальский умеет говорить увлечённо и ярко, создавая череду броских комических или трогательных зарисовок и заражая читателя своим увлечением. По воспоминаниям современников, на лекциях, рассказывая о фауне, учёный подражал пению птиц. Так, в седьмой главе «Путешествия» учёный с неподдельным сочувствием пишет о журавлях: «Привязанность названных журавлей к своим детям и между собой очень велика. Так, однажды в долине Сиян-хэ я убил самку из пары, обитавшей недалеко от того места, где я жил несколько дней. Оставшийся самец долго летал вокруг меня, пока я нёс его убитую подругу; затем держался два дня возле того места, часто и громко крича, и, наконец, убедившись в бесполезности своих поисков, на третий день решил покинуть родину, в которой жил счастливо, может быть, несколько лет». В закрытый город, населённый корейцами, Пржевальский попадает как образцовый авантюрист: показывает стражу закона какую-то русскую бумажку с печатью и выдаёт её за официальное разрешение на посещение. Путешественники останавливаются на ночлег у бедного китайца; тот видит, что у них есть стеариновые свечи, и просит одну. Пржевальский делится — китаец начинает её есть. Учёный не теряется и предлагает хозяину погрызть ещё и мыла. — И. Ч.
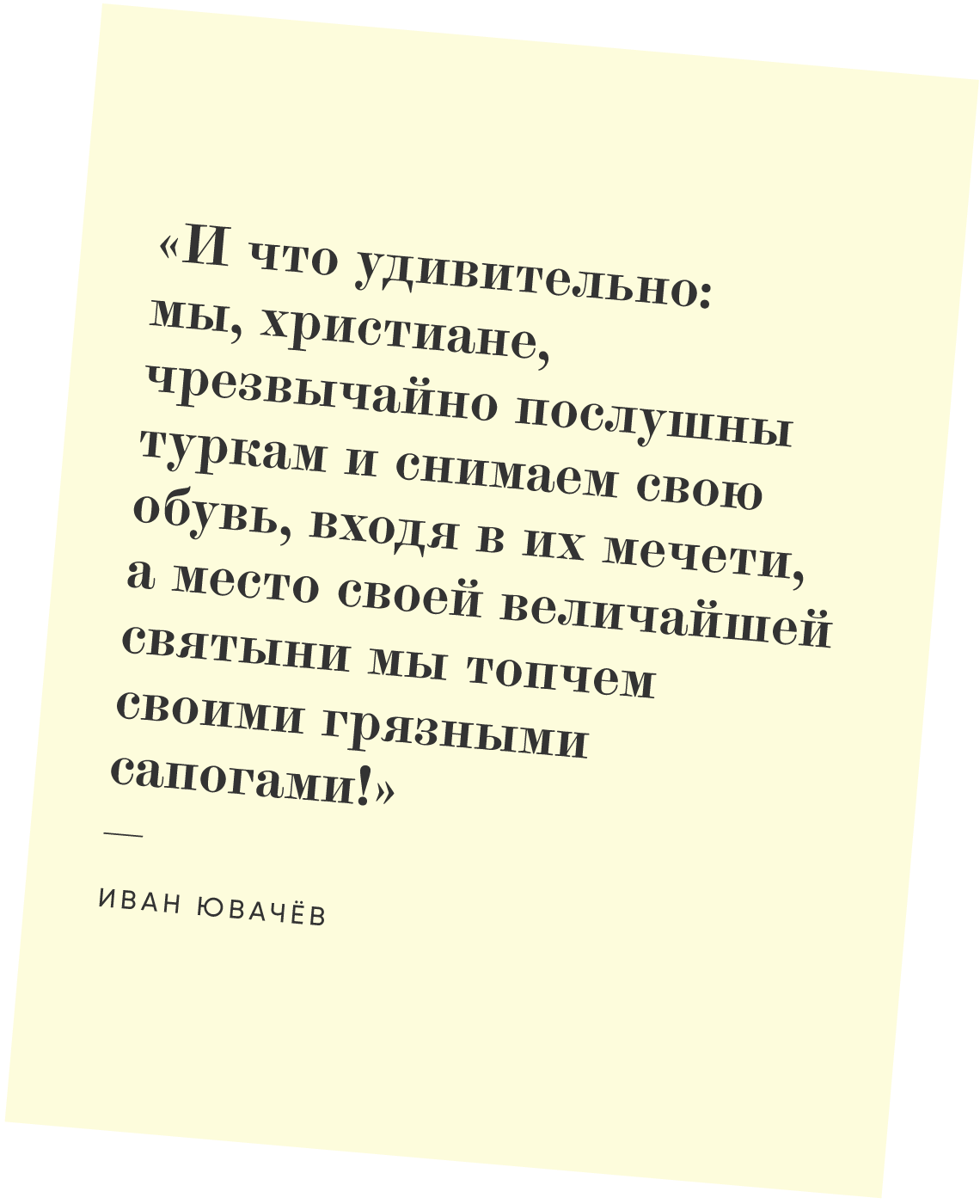
Сергей Турбин. Страна изгнания. Сибирские очерки (1872)
Красноярск мне показался одним из самых плохих губернских городов в Империи, а я их пересмотрел изрядное количество (в Европейской России все, кроме Архангельска и Астрахани). По моему мнению, хуже всех Чернигов, а Красноярск, ей Богу, не лучше Чернигова.
В августе 1862 года артиллерийский офицер Турбин по казённой надобности отправился из Петербурга в Иркутск. Ему приходилось ездить в командировки очень часто — та, о которой он написал несколько очерков, опубликованных в «Санкт-Петербургских ведомостях» в 1863–1865 годах, кажется, была самой обыкновенной. Эта обыкновенность и есть самое интересное: ещё за десять лет до Турбина поездка по Сибирскому тракту воспринималась большинством путешественников как нечто экстраординарное. С начала 1860-х Сибирь становилась всё ближе к метрополии — и в смысле транспорта, и в смысле известности. О Сибири начали писать книги — и сами сибиряки, и иностранцы (Турбин знал всю немногочисленную актуальную литературу, посвящённую региону, — и Завалишина, и мадам де Бурбулон). Тем не менее информации не хватало. Травелог Турбина — это отчёт столичного командировочного, очевидно имевший целью снабдить петербургских читателей самой свежей информацией о Сибирском тракте.
О европейской части пути в те времена, как правило, не писали: она была всем известна. От Петербурга до Перми можно уже было доехать паром. Умеренная экзотика начиналась в Пермской губернии: сев в тарантас, путешественник проезжал через длинный ряд сибирских городов, каждый из которых к этому времени обладал собственными стереотипными достопримечательностями. В Екатеринбурге вам обязательно попробуют продать резные камни, в Тюмени вы увидите знаменитую грязь, ковры местного производства и арестантов, Омск считается городом военным, там полно верблюдов и отставных чиновников, в Томске есть роскошные магазины, но также и криминал, Красноярск — это золотопромышленники. Всю эпоху транспортной революции в регионе, до середины 1890-х, эти стереотипы будут воспроизводиться в текстах многочисленных сибирских путешественников. В этот период страна между Камой и Байкалом становится частью не только имперского, но глобального контекста. В августе 1862 года, пересекая Урал между Ачитской станцией и Екатеринбургом, Турбин насчитал две тысячи подвод с бухарским хлопком, который везли в Россию. До этого метрополия потребляла в основном американский хлопок, но годом ранее в США вспыхнул известный общенациональный конфликт. «Вот куда отозвалась война федералистов с сепаратистами!..» — Ф. К.

Панорама Томска. Фотография Джорджа Кеннана. 1885 год
Павел Засодимский. Лесное царство (1878)
От зырян, от образа жизни их до того веет юностью и свежестью первобытного народа, что если бы какой-нибудь славянин времён Олега или Игоря Святославича ожил теперь и очутился бы среди зырян, то он подумал бы, что спал не столетия, а лишь несколько часов.
Писатель-народник отправляется в экспедицию по местам столь же труднодоступным, сколь и близким ему — зырянский край, о котором пишет Засодимский , принадлежал к той же Вологодской губернии, что и родной для автора Великий Устюг. Непроходимые леса и бездорожье стали преградой на пути промышленной цивилизации, и в зырянах, не тронутых тлетворным влиянием прогресса, Засодимский находит своих «благородных дикарей». Народ коми, на взгляд автора, трудолюбив, честен, добродушен и сострадателен, они поклоняются деревьям, молятся почерневшим иконам и кладут в основание церквей особенно почитаемые пни. Особое внимание автора привлекает обычай «помолвки поцелуями» и «венчания вокруг ракитового куста»: работающие наравне с мужчинами зырянки чрезвычайно эмансипированы и не испытывают за «вольную любовь» ни страха, ни стыда. Впрочем, от умиления невинными забавами этой лесной Аркадии автор быстро переходит к описанию совершенно непролазного быта. Зырянам не хватает пахотных земель, они бьют в зимнем лесу белку и нанимаются на рудники, но всё равно живут впроголодь, причём недолго (средняя продолжительность жизни коми — 21 год). Их отношения с завоеваниями прогресса тоже своеобразны: Северо-Екатерининский канал, соединяющий Каму с Северной Двиной, местные жители методично засыпают всяким хламом и засаживают ивняком — с тем, чтобы потом за копейки перетаскивать посуху грузы с застрявших кораблей. Засодимский предлагает законодательные меры, которые облегчили бы жизнь зырян, и уже прозревает среди дремучего бурелома контуры будущего Чикаго — но тут же проваливается в топь, глубь и мрачную чащобу, где обитает лишь медведь, заваленную «трупами деревьев» и «безобразно навороченным пеньём», в котором автору чудится груда мёртвых человеческих тел… Да, «чего-чего только нельзя усмотреть в лесу в сумерки!» — Ю. С.

Зыряне, возвращающиеся со сбора морошки. Фотография Юлия Шокальского. 1890 год
Николай Миклухо-Маклай. Путешествия на берег Маклая (1870-е, изд. 1923)
После ужина около меня собралась вся деревня. Мы сидели в совершенной темноте. Костра не было, а луна всходила поздно. Меня расспрашивали о России, о домах, свиньях, деревьях и т. п. Перешли потом к луне, которую, очевидно, смешивали с понятием о России, и хотели знать, есть ли на луне женщины, сколько у меня там жён; спрашивали о звёздах и допытывались, на которых именно я был, и т. д.
Миклухо-Маклая можно назвать романтиком колониальной эпохи: разделяя её расовые предрассудки, он в итоге стал защитником «примитивных» народов от ужасов колонизации. Маклай был антропологом-самоучкой, удивлявшим современников экстравагантными поступками и утопическими проектами. Бóльшую часть своей недолгой и крайне насыщенной жизни Маклай провёл за пределами России: получив медицинское образование в Германии, он стал ездить в любые экспедиции, на которые удавалось раздобыть денег (и заболел в одной из них малярией, которая мучила его всю оставшуюся жизнь). Идея поехать в Новую Гвинею, на тот момент совершенно не изученную, возникла у него случайно под влиянием статьи в каком-то немецком журнале. Русский корвет «Витязь» как раз готовился отправиться в картографическую экспедицию в те края. В сентябре 1871 года Маклай высадился на северо-восточном побережье острова Новая Гвинея в компании двух слуг, шведского матроса и мальчика-полинезийца. На «Береге Маклая» (названном им так «по праву первого европейца, поселившегося там, исследовавшего этот берег и добившегося научных результатов») 25-летний исследователь провёл 14 месяцев, наблюдая и описывая «туземцев в их первобытном состоянии». Делать это, по мнению Маклая, следовало безотлагательно — потому, что «расы эти, как известно, при столкновении с европейской цивилизацией с каждым годом исчезают».
Дилетантизм Маклая делает его дневник особенно интересным. Он просто описывает свою жизнь в хижине неподалёку от деревни; у него почти не было запасов продовольствия, хотя было огнестрельное оружие и кое-какие лекарства, прежде всего хина, впрочем не спасавшая от приступов малярийной лихорадки. Поначалу Маклай мог объясняться с местными жителями только знаками — зато потом его стали считать кем-то вроде полубога, «человеком луны», который мог зажигать воду, убивать огнём и исцелять взглядом. В свободное от выживания и общения время Маклай предпринимал походы в дальние деревни, охотился и рисовал (очень хорошо). Как «антрополога» его особенно интересовали черепа папуасов, в которых, к его большому неудовольствию, вечно не хватало нижних челюстей из-за того, что родственники умерших носили их на руке в виде браслета.
Почти через пять лет, в июле 1876 года, Маклаю удалось вернуться на свой берег и прожить там ещё почти полтора года. Чувствуя себя единственным покровителем и защитником жителей «Берега Маклая» во враждебном колониальном мире, Маклай обратился к Александру II с предложением об установлении протектората — «не как русский, а как Тамо-боро-боро (наивысший начальник) папуасов Берега Маклая». Проект не нашёл понимания, а через пару лет остров Новая Гвинея был разделён между Нидерландами, Британией и Германией, которой достался, в частности, «Берег Маклая». Маклай вернулся в Россию и вскоре умер — ему было всего 42 года. Первые материалы его путешествий были изданы только в 1923 году, а новогвинейские дневники вышли отдельно, под названием «Путешествия на Берег Маклая», в 1956-м. — Д. Ш.


Рисунки Николая Миклухо-Маклая, сделанные на Берегу Маклая в Новой Гвинее. 1870-е годы
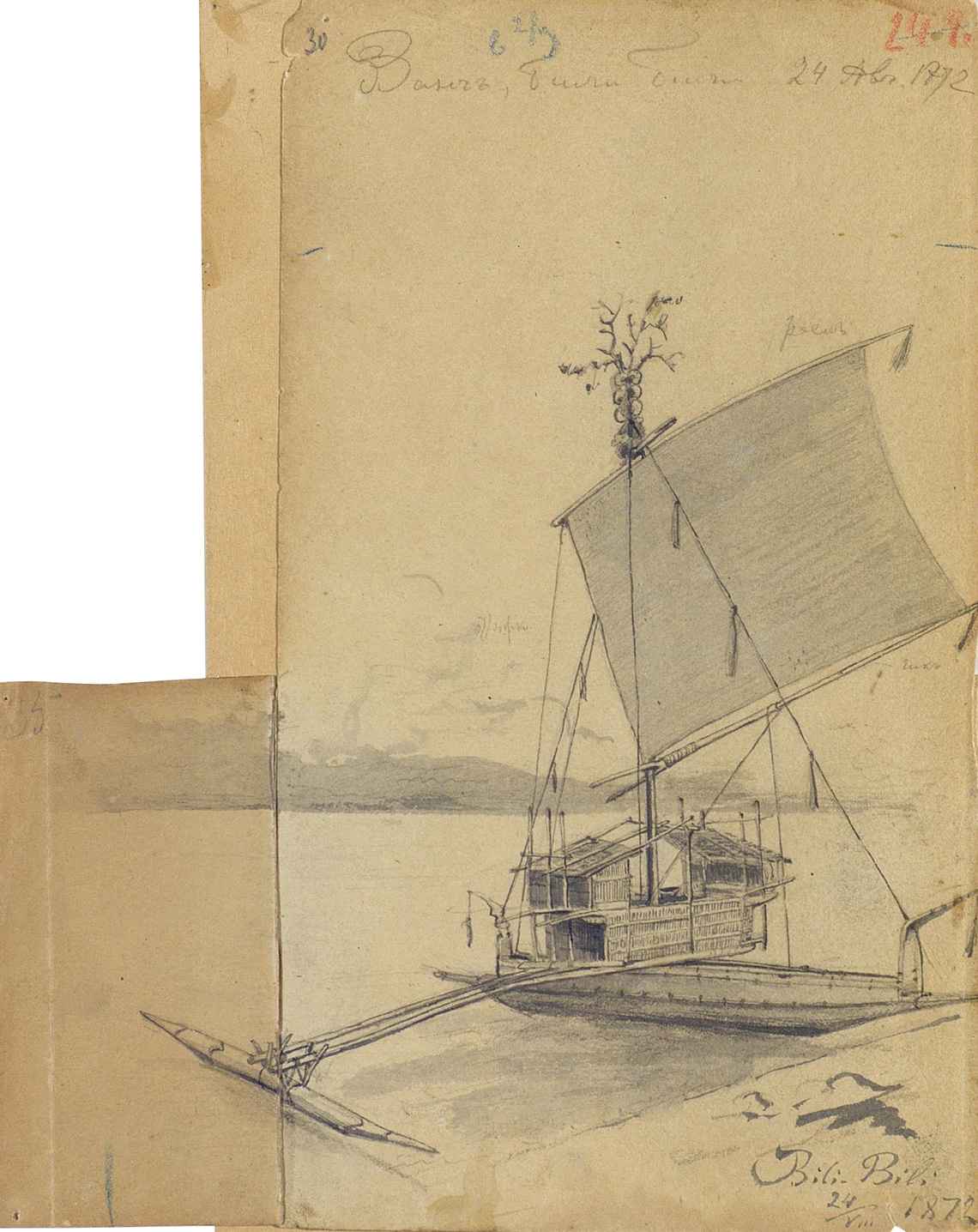
Николай Ядринцев. Сибирская Швейцария (1880)
Алтай отличается от настоящей Швейцарии тем, что здесь, чтобы полюбоваться прекрасным берегом реки, приходится пробираться через грязную скотскую стайку — как не раз приходилось нам — или среди величественных, чарующих душу картин оставаться одинокому, подавленному природой.
Алтай (или, точнее, Алтайский горный округ в составе Томской губернии) был во многих отношениях уникальным регионом Российской империи. Горнодобывающая промышленность создала в глубине Западной Сибири целую страну, с городами, пароходами, значительной по сибирским меркам «густотой населения» и амбициями. Географ Семёнов-Тян-Шанский назвал Барнаул «сибирскими Афинами, самым культурным уголком Сибири». В пореформенный период в сибирских колониях выросло поколение «областников», сибирских патриотов, радевших о будущем азиатской России. Своей красотой и экономическим потенциалом Алтай напоминал им Западную Европу. С другой стороны, как следует из очерка журналиста Николая Ядринцева «Сибирская Швейцария» (1880), во многих смыслах регион был ещё бесконечно далёк от настоящей цивилизации.
Характерный приём травелогов много путешествовавшего Ядринцева (в конце жизни он побывал даже в США) — параллельный монтаж двух поездок. Швейцария и Алтай, уподобляемые и в то же время противопоставляемые друг другу, иногда описываются даже не последовательно, а словно бы выводятся на один экран, комбинируются друг с другом. Если в «Сибирской Швейцарии» 1880 года Европа проглядывает сквозь Алтай ещё не очень смело, то в записках о путешествии в Европу (1885) Алтай светится сквозь Германию и Швейцарию уже так ярко, что практически не позволяет их увидеть: «Закипит ли когда жизнь в наших пустынях, думалось мне, прорежут ли когда тоннели Нарымский хребет и Алтай, выдвинутся ли если не виллы, то чистые домики переселенцев-крестьян, зазвучит ли весёлая и счастливая песня здесь, как на Рейне, вместо предсмертного крика пловцов, восстанут ли поэтические предания, явится ли поэт воплотить их, как в Германии, выйдет ли из бухтарминских вод наша Лорелея» («Письма сибиряка из Европы», 1885). — Ф. К.

Алтайский шаман с бубном. Фотография Сергея Борисова. 1910-е годы

Житель Алтая на лошади. Фотография Сергея Борисова. 1910-е годы
Всеволод Крестовский. В дальних водах и странах (1885–1888)
Что хотите, но турки своим присутствием придают много характерности и даже своеобразной прелести жизни этого города. Они как бы дополняют собою характерные красоты окружающей природы, и, в сущности, ей-богу, будет очень жаль, по крайней мере с художественной стороны, если их когда-нибудь выгонят совсем из Константинополя.
Всеволод Крестовский, читателям своего времени известный натуралистическим романом «Петербургские трущобы», был образцовым, как бы мы сказали сейчас, военкором: офицер и историк уланского полка, чиновник при туркестанском генерал-губернаторе, журналист на русско-турецкой войне. Книга «В дальних водах и странах» — хроника его путешествия в штаб Тихоокеанской эскадры, из Одессы через Босфор и Суэцкий канал, минуя Сингапур, Сайгон и Шанхай — в Японию. Конец XIX века — время «Большой игры», сложного военно-дипломатического противостояния России и Британии в борьбе за контроль над Азией. Крестовский смотрит на встретившиеся ему виды и достопримечательности глазами державника-геополитика. В Константинополе его привлекают не Святая София, но дворцы турецкой элиты, памятные ему по временам заключения Сан-Стефанского мира, и кофейни, в которых он видит форпост противостояния обезличивающему влиянию Запада: «К сожалению, и теперь уже общелиберальный безличный пиджак всё более и более вытесняет картинные восточные костюмы». В Египте обращает внимание на результаты динамичного правления Измаил-паши: только что прорытый Суэцкий канал, новые порты и железные дороги, благоустройство Каира и Александрии. В Гонконге следит за центрами сосредоточения геополитического противника — английскими клубами и газетами, в которых обсуждают наши переговоры с Китаем. В Китае собирает сведения о составе и вооружении китайского войска, а также о притязаниях англичан на доступ к внутреннему рынку. Российская империя (та самая, у которой два союзника, армия и флот) смотрит на мир как на великую шахматную доску — и одновременно оказывается заворожена красками и пряными ароматами потенциальных сфер влияния: Азия для Крестовского — не просто стратегически важная территория, она состоит из курилен, пышных церемониальных процессий и драконов, охраняющих артистов китайского театра от покушения злых духов, цветущей сложности, на которую автор смотрит не с алчностью завоевателя, но с почтительным интересом. — И. Ч.

Вид на Александрию. Около 1885 года
Дмитрий Пешков. Путевые записки (дневник) от Благовещенска до Петербурга… во время переезда верхом на «Сером» (1890)
При въезде в Тюмень я в первый раз в жизни переехал рельсы железной дороги, которой никогда в жизни до того не видал. Вечером я не вытерпел и поехал на вокзал железной дороги посмотреть на отход поезда.
Записки сотника Амурского казачьего полка, который в 1889–1890 годах совершил путешествие в 8283 версты по маршруту Благовещенск — Санкт-Петербург верхом на своём коне Серко («Сером»), — документ, отсылающий к богатой традиции эксцентрических (или спортивных, это как посмотреть) путешествий. Такие поездки стали популярны во второй половине XIX века, когда человечество начало ощущать себя по-настоящему глобальным явлением, связанным не только транспортными, но и медийными сетями. Отправляясь в путешествие через всю Российскую империю, чтобы испытать выносливость коня и свои собственные силы, Пешков, конечно, следовал моде — через пару лет после него, в 1891–1892 годах, князь Константин Вяземский совершил путешествие верхом через Сибирь, Китай, Вьетнам, Таиланд, Бенгалию, Гималаи и Тибет, а в 1909-м на всю империю прославился лудильщик Иосиф Репечек, ехавший из Красноярска в Петербург на волках. В отличие от этих путешественников, Пешков и его пожилой конь не нарушали спортивного протокола и за полгода пути благополучно достигли поставленной цели. Читая этот дневник, интересно следить за тем, как по мере движения от периферии к центру империи мир становится всё более «цивилизованным», причём не столько в смысле технологическом, сколько социально — это выражалось прежде всего в ажиотаже, которым встречали путешественников. К концу путешествия они стали настоящими звёздами, в честь которых устраивались обеды и кавалькады. Судя по дневнику, Серко и его хозяин, преодолевшие на своём пути морозы и бураны, достойно справились и с этим испытанием. — Ф. К.
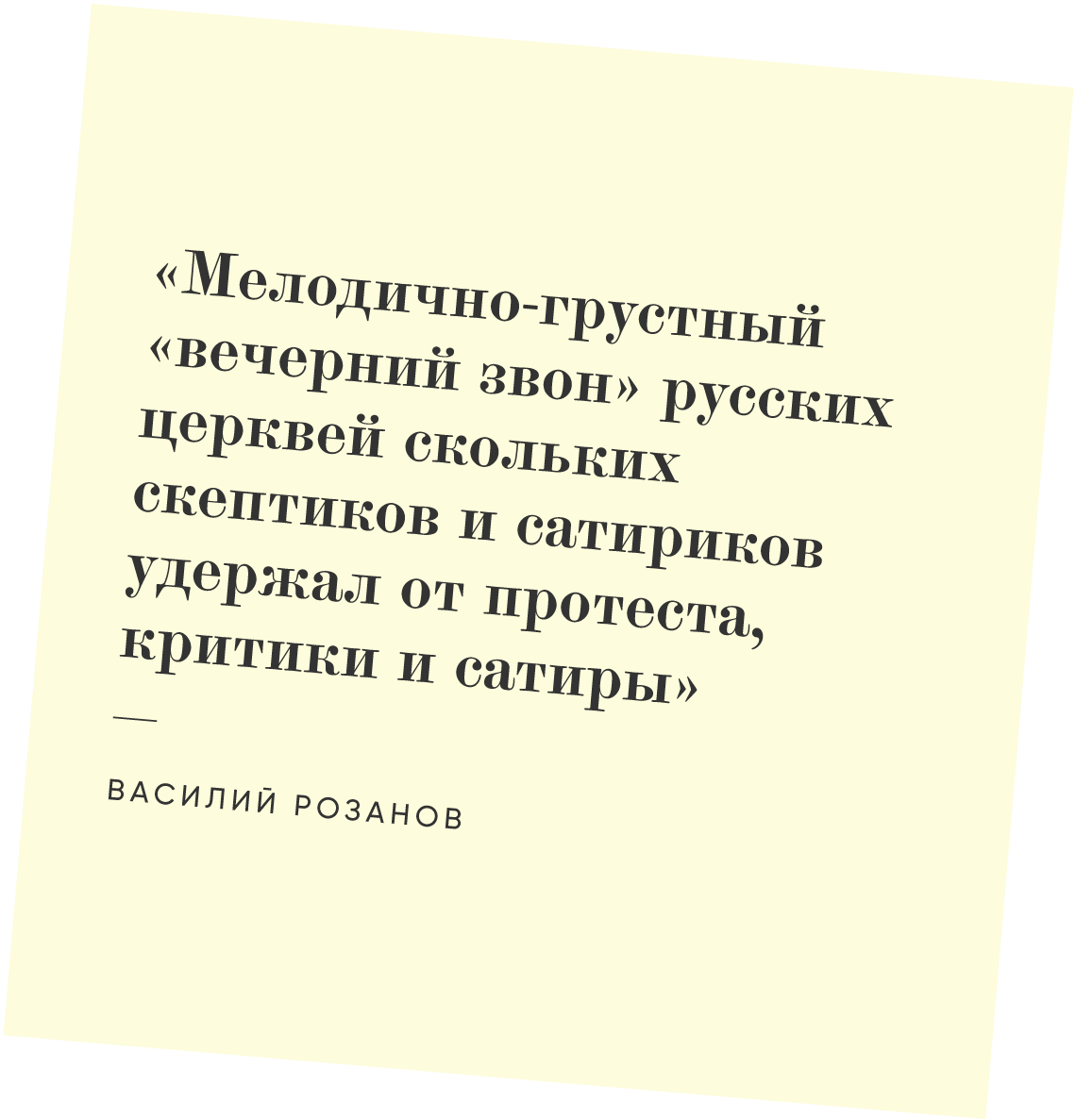
Василий Немирович-Данченко. По Каме и Уралу (1890)
Глаза жадно разбегаются по красивым далям, где едва-едва рисуются гряды и конусы Уральских гор. Грудь дышит и надышаться не может… <…> А там, внизу, в чёрных жилах, в подземных ходах и одиноких ячейках работают в вечном мраке сотни народа…
В 1878 году Горнозаводская железная дорога соединила Пермь, куда можно было «прибежать» на пароходе из Нижнего Новгорода, с Екатеринбургом. Урал стал относительно доступным, туда поехали туристы из европейской России, а пермяки, екатеринбуржцы и тагильчане ощутили себя жителями по-настоящему единого региона. В 1880-е родился уральский текст русской литературы — именно в это время стал популярен живший тогда в Екатеринбурге Дмитрий Мамин-Сибиряк. Помимо прочего, автор «Серой Шейки» был отличным очеркистом. В восьмидесятых годах он опубликовал в периодике несколько травелогов, сейчас, к сожалению, малодоступных (например, «От Урала до Москвы», 1881–1882). Почитав Мамина-Сибиряка, другой русский путешественник решил собрать под одной обложкой собственные журнальные очерки о путешествии по Уралу.
Очерки Мамина-Сибиряка, совершившего в начале 1880-х двадцатичасовое путешествие из Екатеринбурга в Пермь в вагоне третьего класса, и Немировича-Данченко (который в середине семидесятых, когда железная дорога только строилась, почти неделю ехал в обратном направлении на тарантасе по умирающему гужевому Сибирскому тракту) очень интересно сравнивать. Уралец Мамин уверенно выступает от лица хорошо знакомых ему людей и ландшафтов, приезжий Немирович-Данченко старается быть вежливым и осторожным в суждениях, оба полны пафоса открытия новой, неизвестной ещё территории, частенько сообщают одно и то же и высказываются так, что не отличить: «Можно удивляться, что наши русские художники так упорно обходят Урал, предпочитая ему южное море, уголки благословенного юга, Кавказ и Финляндию…» (Мамин-Сибиряк); «Протираешь глаза себе — куда попал я? Неужели это уголок России? Отчего же где такой здоровый воздух, такие чудные окрестности, такие поэтические виды, — отчего сюда не направляются наши скучающие туристы?..» (Немирович-Данченко). Застывшие волны гор, медведи Косьвы, барки на Чусовой, зверства Демидова, покосившаяся Невьянская башня, льющееся из домны чугунное «молочко», тяжёлый труд пролетариев и буйные кутежи купцов. В общем, без травелога Немировича-Данченко, как и без путевых записок Мамина-Сибиряка, тему Урала не раскрыть. — Ф. К.

Невьянская башня на дореволюционной почтовой открытке
Антон Чехов. Остров Сахалин (1893)
— Когда приблизительно идёт здесь последний снег? — спросил я.
— В мае, — ответил Л.
— Неправда, в июне, — сказал доктор, похожий на Ибсена.
— Я знаю поселенца, — сказал Л., — у которого калифорнская пшеница дала сам-22.
Чехов едет через всю Россию на Дальний Восток (биографы считают, что путешествие спровоцировало обострение болезни лёгких и сгубило писателя) с необычной для известного литератора миссией — собирается проводить там перепись населения. Сахалин конца XIX века — каторжные места, здесь живут в основном ссыльные, бывшие и нынешние. Встречаясь с ними, Чехов выполняет вполне рутинную работу, заполняет опросные карточки с обязательными пунктами: имя, дата и место рождения, образование. Но народ тут специфический: имён не знают (а иногда меняются ими), помнят только клички, возраст тоже могут вспомнить не сразу. Даже владение грамотой — понятие растяжимое: неграмотными называют себя, например, плохо видящие и те, кто умеет разбирать только печатный текст.
Каждый разговор с местным жителем — ссыльным, доктором или метеорологом — превращается у Чехова в завершённый короткий рассказ. О Соньке Золотой Ручке (чья слава началась как раз с «Острова») и местном собирателе зоологических редкостей, о коренном народе — айнах — и той роли, которую на острове играют женщины. Главный эффект «Острова» оценит любой, кто читал рассказы Чехова. Писатель как будто запрещает сам себе заниматься литературой: стремится к научности и сухости текста. Даже разбивает его на тематические блоки: наказания, быт ссыльных, быт каторжников, побеги. Но литература как будто сама Чехова находит, подсовывает сюжеты и заставляет возвращаться к своему фирменному стилю, с характерной речью персонажей и мягко-ироничной авторской интонацией.
Наконец, это один из очень немногих в русской литературе девятнадцатого века очерков тюремного и ссыльного быта, и описывает он в первую очередь влияние среды на характеры и образ мысли каторжников, их обезличивание. В советское время эту тему развивала лагерная проза. — И. Ч.

Антон Чехов (стоит справа) на пикнике в честь японского консула на Сахалине. 1890 год
Павел Пясецкий. Панорама Великого сибирского пути (1894–1900)
Показать… всё сколько-нибудь типичное или интересное в том самом порядке и в той же связи, в каких всё виденное… проходило пред… глазами.
Нынешний Транссиб, который первоначально именовался Великим сибирским путём, начали строить в 1891 году с двух концов: от Челябинска и от Владивостока. В 1894-м к проекту подключился Павел Пясецкий, художник и неутомимый путешественник, уже попробовавший себя в жанре травелога («Путешествие по Китаю в 1874–1875 годах», 1880). Во время китайской экспедиции 1870-х Пясецкий обнаружил талант к быстрым зарисовкам. Он разработал оригинальный художественный метод, который его прославил: начал рисовать длиннейшие панорамы, которые нужно было просматривать при помощи устройства, перематывавшего бесконечный свиток перед зрителем. Первая такая панорама (1877), созданная по результатам китайской экспедиции, изображала путь из Китая до западносибирской границы России. Строительство Транссиба открыло перед Пясецким новые возможности. Он передвигался по бесконечной стройке, сидя в специально оборудованной беседке на крыше персонального вагона, иногда сходя с неё для зарисовок городских пейзажей узловых станций, таких как Челябинск, Омск, Томск, Красноярск, Иркутск и Владивосток.
Конечно, этот исполинский труд, который теперь хранится в Эрмитаже, не был травелогом в собственном смысле этого слова. Впрочем, не был он и бесстрастной механической фотокопией сибирских пространств. «Железная дорога убивает пространство», — писал, цитируя Гейне, Вольфганг Шивельбуш , имея в виду, что авторы железнодорожных травелогов по естественным причинам описывают ландшафт как бы издалека, уже далеко не так подробно, как их предшественники времён почтовых станций и тарантасов, и сосредотачивают внимание преимущественно на вагонном быте и разговорах. Рисованный травелог Пясецкого, который сочетал «быстрые» перемещения на поезде с основательными «медленными» экскурсами, посвящёнными особо красивым видам и старинным городам, был, пожалуй, переходным звеном от травелогов гужевой эпохи к «вагонным» описаниям Транссиба, уникальным опытом, который не повторишь. — Ф. К.
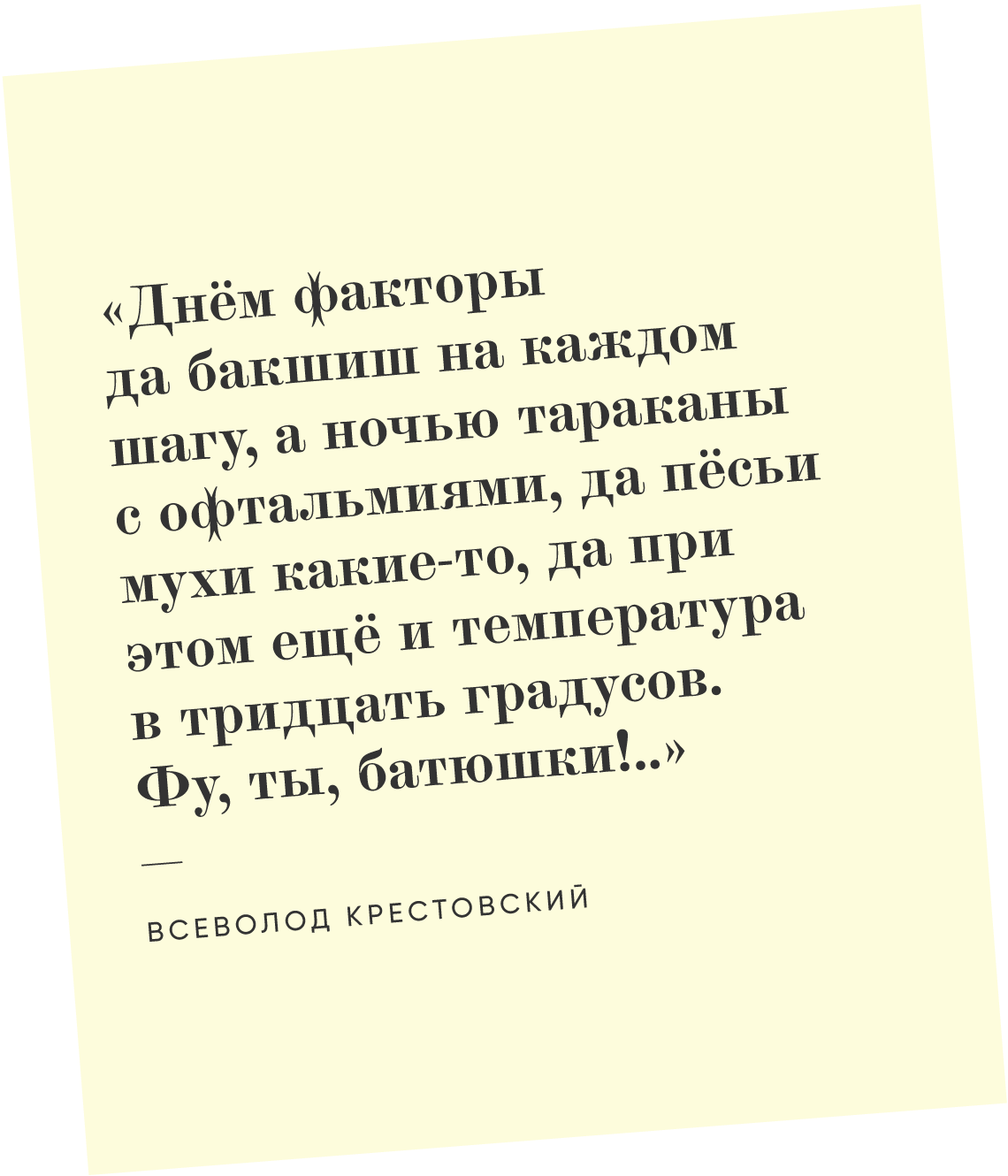
Александра Потанина. Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету и Китаю (1876–1893, изд. 1895)
Народ, увидя, что я скрылась в этот дом, пожелал поближе рассмотреть сиянскую женщину и начал набиваться во двор и в самую комнату, где мы сидели. Чтобы не беспокоить жильцов дома этой толпой, которую привлекала я, мы решили уйти из города подальше…
Первые женщины-географы появились в России в семидесятых годах XIX века. Исследовательница Центральной Азии Александра Потанина, принятая в члены Русского географического общества в 1887 году, была третьей по счёту. «Всегда готовая признать чужие заслуги, она тщательно умалчивала о своих», — писал её муж и коллега Григорий Потанин. Два из четырёх томов «Очерков северо-западной Монголии» (1881–1883), прославивших Потанина и превративших его из оппозиционного публициста-областника в «русского Ливингстона», осуществлявшего цивилизационную миссию Российской империи в Монголии и Китае, представляли собой издание этнографических материалов, собранных его женой. По-видимому, «скромность» Потаниной объяснялась её желанием инвестировать свои достижения не столько в собственную эмансипацию, сколько в эмансипацию сибирской колонии. Проект «великий путешественник Потанин» должен был доказать всему миру, и в первую очередь имперской метрополии, что Сибирь способна рождать «собственных Невтонов» и создавать настоящую науку. О том, насколько важна была Потанина для этого проекта, свидетельствуют печальные обстоятельства последнего путешествия пары: когда жена заболела и умерла, муж, воспринявший эту смерть как величайшую трагедию, прервал экспедицию и больше уже никогда не предпринимал подобных путешествий.
Огромные экспедиционные тома «проекта Потанин» — слишком специальное чтение, чтобы рекомендовать их широкому читателю. Небольшой сборник очерков Потаниной, выпущенный в свет после её смерти, представляет собой что-то вроде комментария к этому гигантскому травелогу — отдельные картины и эпизоды большого двадцатилетнего путешествия. Тувинские (урянхайские) шаманы, джунгарские князья, тибетские ламы и, что особенно важно, женщины, которые их окружали, — Потанина была способна их видеть. — Ф. К.

Александра Потанина

Женщина-шаман в Бурятии. Начало XX века. Из архива Минусинского музея
Николай Гарин-Михайловский. По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову. Карандашом с натуры (1898)
Очень сложный вопрос мы обсуждаем. Вопрос их религии.
Будда, Конфуций, шаман, обожание гор — всё это смешалось и составило религию простого человека в Корее.
Писатель Гарин-Михайловский был вообще кипучей натурой. В разное время он занимался сельским хозяйством (в конце концов местные крестьяне сожгли его дом), строил железные дороги (в том числе Транссиб), умел и любил путешествовать. В 1898 году он отправился в кругосветное плаванье: через Сибирь и Дальний Восток в Америку и через Европу — обратно в Россию. Едва ли не в последний момент Русское географическое общество предложило ему принять участие в экспедиции с конкретной научной целью: найти исток реки Туманган, по которой и тогда проходила, и сейчас проходит граница России, Кореи и Китая. Гарин согласился и включил этот поход в свой маршрут.
Подзаголовок «карандашом с натуры» — более чем говорящий: это именно что дорожный дневник, сборник метких набросков. Михайловский пишет скупо, порой текст вовсе напоминает конспект событий и бесед: вышли, сделали привал, говорили о красоте гор. В этих этюдах находится место и пейзажам, и нравам, и описанию всяких природных опасностей. Но, наверное, самое увлекательное — бесчисленные сказки и легенды, которые Михайловскому рассказывают едва ли не все встреченные корейцы. Про силачей Ли и Пака, которые мерились могуществом — и один стал правителем, а другой основал монастырь, обитатели которого имели «вечное право ругать и бить всех и крестьян и дворян». Про братьев, мечтавших разбогатеть — и перебивших друг друга в битве за драгоценный корень женьшеня. Про особо хищных маленьких крокодилов, которые водятся в Корее.
Кроме того, надо иметь в виду, что Корея в конце XIX века — страна закрытая, она вовсе неизвестна исследователям, а экспедиция, в которой принял участие Михайловский, — вообще первое серьёзное путешествие на полуостров. Тем более вполне объяснимо, что из всего своего кругосветного путешествия Гарин подробнее всего описал именно эту неизведанную землю — книга заканчивается описанием Шанхая и японских портов, Америка и Европа остаются за скобками и после Кореи, кажется, уже не могут впечатлить автора. — И. Ч.

Дворец Кёнбок. Тронный зал. Сеул, 1900-е годы

Помолка риса. Южная Корея, 1904 год
Гомбожаб Цыбиков. Буддист-паломник у святынь Тибета: по дневникам, ведённым в 1899–1902 годах (изд. 1919)
После этого принесли варёного риса, далай-лама также отведал из поданной ему чашки и сполоснул рот из особого кувшинчика. Нам же понаклали в чашки рису очень щедро и даже через края, но не успели мы и отведать его, как сказали, что церемония кончена и нужно поспешно удаляться. Конец вышел не особенно гостеприимный. Два громадных телохранителя с бичами в руках выталкивали и кричали в присутствии самого далай-ламы: «Убирайтесь поскорее!» Мы, понятно, в некотором смятении бежали вон и… ушли домой. Вся церемония не тянулась и десяти минут.
Гомбожаб Цыбиков был первым человеком, которому удалось сфотографировать Лхасу и выбраться оттуда живым. Хотя в некоторые части Тибета путешественникам (в том числе русским Пржевальскому и Козлову) проникать удавалось, Лхаса в конце XIX и начале ХХ века была для иностранцев абсолютно запретным местом — не считая китайцев, туда могли попасть только буддисты-азиаты. Бурят Цыбиков, только что окончивший Восточный факультет Санкт-Петербургского университета, идеально подходил для этой роли. Получив финансирование Русского географического общества, в ноябре 1899 года он под видом паломника выехал из Урги (сейчас Улан-Батор) в Тибет — на верблюдах, с партией «алашанских монголов», в сопровождении одного только наёмного слуги. Фотоаппарат пришлось спрятать в молитвенном барабане, а записи вести в маленьком блокноте. Непростая дорога по пустыням и горным перевалам заняла семь месяцев, а в Лхасе Цыбиков прожил больше года, предпринимая вылазки в окрестные монастыри, участвуя в чуть ли не ежедневных религиозных церемониях, включая краткий приём у далай-ламы, но главное — наблюдая, тайно фотографируя (людей ему обычно приходилось снимать со спины) и методично описывая жизнь тибетцев. Кроме того, Цыбиков скупил несколько сотен книг, которые перед отъездом упаковал в двадцать тюков («швы… обмазываются смесью крупчатки с кровью свиньи») — для перевозки только этого богатства потребовалось десять подвод.
Основные приключения подстерегали Цыбикова на обратном пути: нанятые им перевозчики скрылись вместе с оплаченными лошадьми, все оставшиеся деньги ушли на покупку «своенравных» вьючных яков, местные бандиты то и дело крали лошадей и другое имущество, для пропитания приходилось охотиться на куланов, но через восемь месяцев Цыбиков всё же благополучно добрался до города Кяхта на границе с Китаем со всеми своими книгами и драгоценными негативами — сенсационные фотографии вскоре напечатал малоизвестный до этого академический журнал National Geographic, что навсегда изменило его стиль и, как следствие, тиражи. По целому ряду причин дневник Цыбикова был опубликован только в 1919 году, через 17 лет после окончания экспедиции, в совсем другой стране. — Д. Ш.
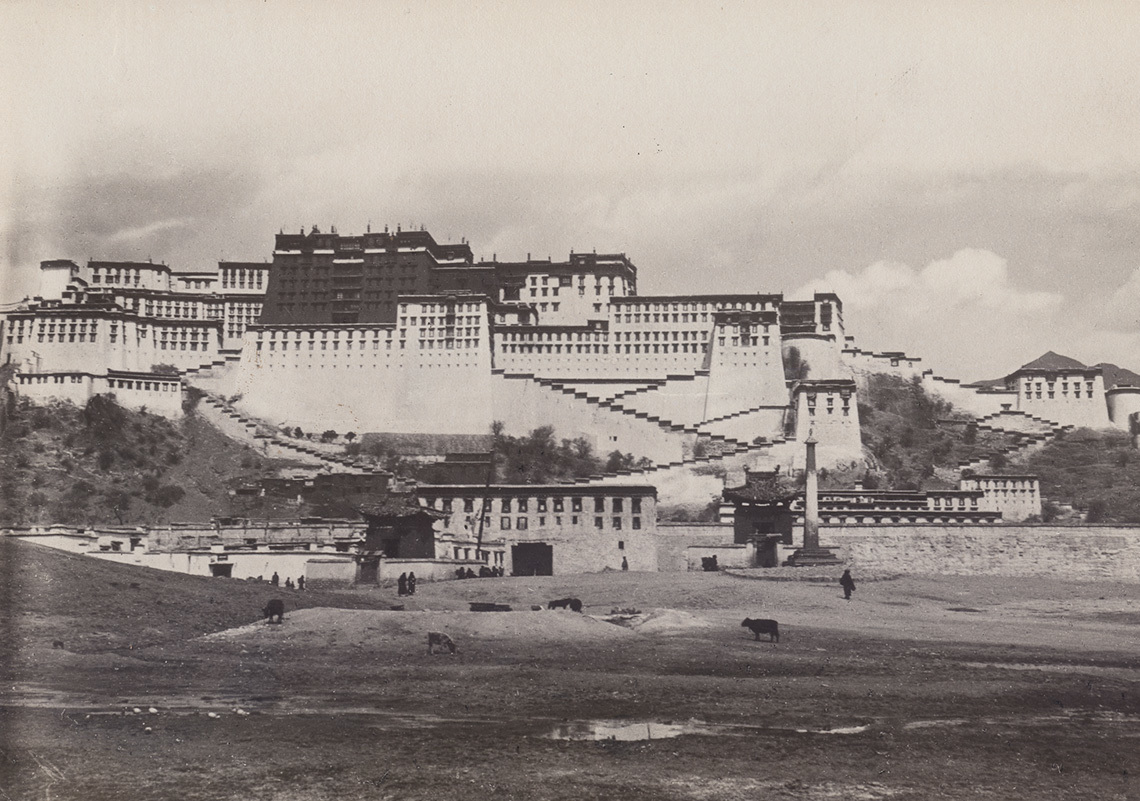
Одна из первых в мире фотографий дворца Потала в Лхасе, сделанная Гомбожабом Цыбиковым через прорезь в молитвенном барабане. 1901 год

Тибетские женщины. Фотография Гомбожаба Цыбикова. 1901 год
Иван Ювачёв. Паломничество в Палестину к Гробу Господню (1904)
Зашли в греческий храм. В нём… было подвешено множество лампад, блестящих шаров и страусовых яиц, что должно напоминать вселенную, наполненную звёздами и планетами.
Революционер-народник, строивший планы покушения на императора, арестант, который провёл несколько лет в одиночных камерах Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей, сахалинский каторжник, ставший прототипом одного из персонажей Чехова, моряк, учёный и православный писатель Иван Ювачёв отправился в Святую землю за пять лет до рождения своего самого знаменитого произведения — сына Даниила, известного нам под псевдонимом Хармс. Весной 1900 года Ювачёв за четыре недели «перекрестил» Палестину, т. е. проехал библейскую страну вдоль, от Галилеи до Хеврона, и поперёк, от Яффы до Иордана, встретив Пасху в Иерусалиме. Читая этот ясный образец паломнического итинерария начала XX века, трудно отделаться от ощущения, что многие из подробностей палестинского паломничества Ивана Павловича отозвались затем в сочинениях Даниила Ивановича. Ювачёвские описания церквей и библейских достопримечательностей напоминают обэриутские экфрасисы , обыкновенная поездка на осле кажется претекстом сразу нескольких хармсовских сочинений: «Я выбирал себе осла пободрее с виду, да хоть немного с сносной сбруей из верёвок. Арабы кругом меня кричат, что-то толкуют непонятное. Наконец, первый раз в жизни я взобрался с камня на белого осла и не успел ещё оправиться в седле, как он сразу рванулся в сторону и бросился бежать со всех ног. Я едва удержался на нём. Арабы сзади бегут и кричат: «хорош! хорош!..» Оказывается, они нарочно кольнули осла шилом сзади, чтобы он проявил такую прыть».
Впрочем, главное совпадение — в особом переживании чуда, достигающем кульминации во время схождения небесного огня на Гроб Господень. С самого начала паломничества интеллигент Ювачёв, едущий в каюте второго класса, поражается тому ажиотажу, который вызывает у палубных паломников из третьего класса эта «благодать»: «Как будто для него и едут. Все их думы и расчёты сосредоточены главным образом на этом пункте: где бы им найти поудобнее место в храме в этот день, как провезти этот огонь в Россию, как бы увидеть само чудо схождения огня». Ему известна рукотворность этого чуда, рассчитанного на невзыскательную аудиторию, он испытывает понятный скепсис и сомнения по поводу того, должен ли христианин играть в эту «детскую игру». Но когда чудо совершается, он заражается всеобщим энтузиазмом, умывается благодатным огнём, который «первое время не жжёт», и восклицает: «Верую, Господи! Помоги моему неверию». — Ф. К.
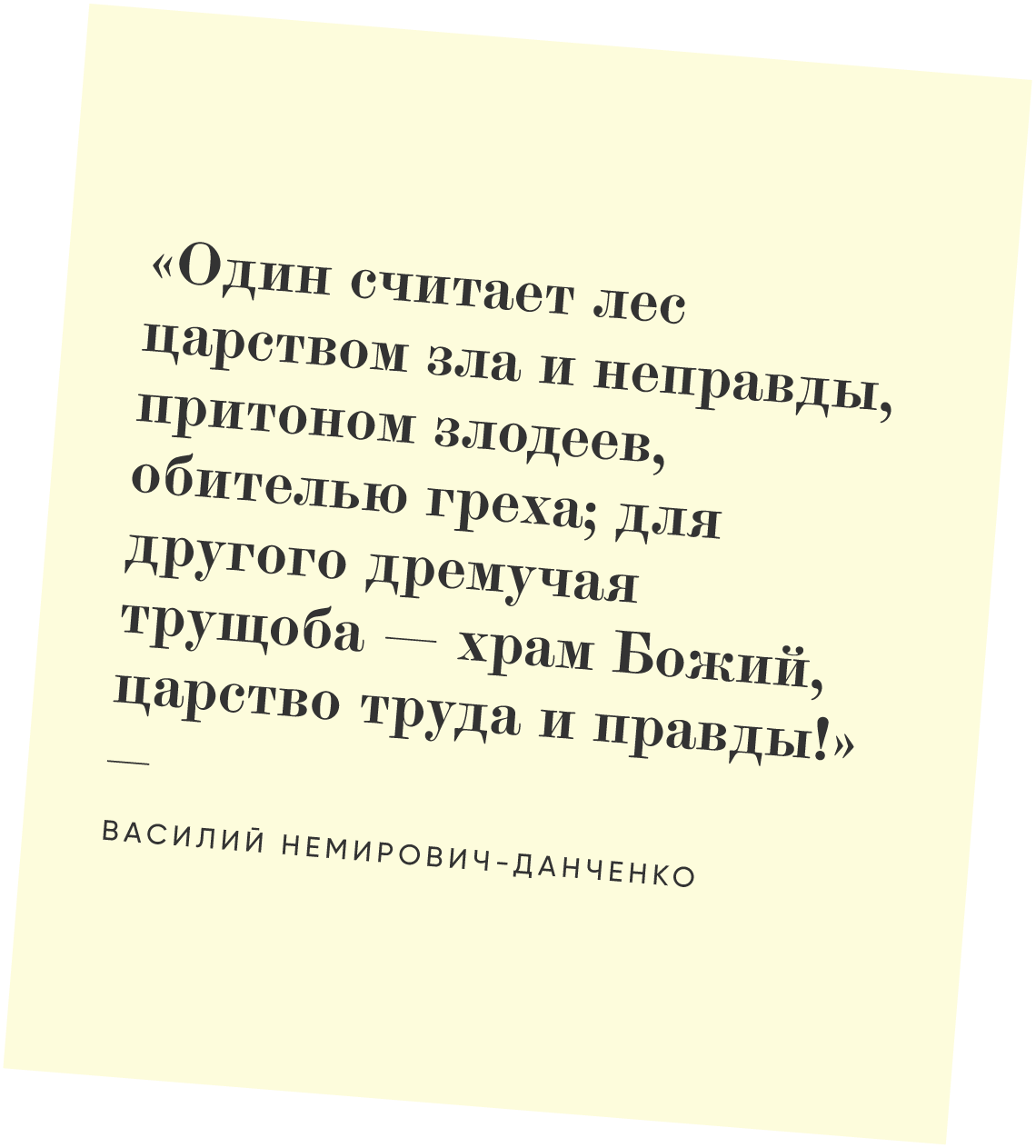
Александр Борисов. У самоедов. От Пинеги до Карского моря: путевые очерки (1907)
Мне кажется, что если нашу обычную природу средней России можно изобразить тонами и полутонами, то даже для приблизительного изображения Крайнего Севера необходимо ясно отдавать себе отчёт даже в одной десятой тона.
В 1898 году ученик Шишкина и Куинджи, 32-летний художник («художественник, то есть мастер», как определил его самоедский старшина в Пустозерске) Александр Борисов отправился в свою первую большую экспедицию на Север. За весну и лето этого года он проехал Большеземельскую тундру и добрался до острова Вайгач. Эту поездку Борисов называл «художественно-испытательной», целью её было выучиться спать на открытом воздухе на морозе, питаться сырой олениной и рыбой, а также (и это на самом деле было главным) научиться писать на морозе картины. На реке Мезени он писал при 37-градусном морозе. В этом путешествии Борисов готовился к главной экспедиции своей жизни — в следующем, 1900 году он отправился на Новую Землю, где написал картины, прославившие его и сделавшие одним из главных создателей отечественного арктического мифа.
По результатам второго путешествия он тоже написал книгу («В стране холода и смерти», 1909), но это не совсем травелог, скорее необходимое предисловие к выставочному каталогу картин. Вообще, отчёт о путешествии 1898 года трудно превзойти — при всей своей увлекательности книга «У самоедов» ещё и великолепно издана. Интересны рассыпанные по книге суждения мастера о том, как правильно изображать Север: «Снег… настолько казался голубым, что, если бы художник написал такую картину, сказали бы: «это не естественно и красочно!» Впрочем, Борисов понравится не только живописцам — гений самопродвижения, он знал, как увлечь широкую публику. Описания непритязательного ненецкого быта перемежаются здесь страшноватыми легендами об оленьей чуме и человеческих жертвоприношениях. — Ф. К.

Александр Борисов. Весенняя полярная ночь. 1897 год

Александр Борисов. Айсберг в Карском море. 1901 год
Василий Розанов. Русский Нил (1907)
Волжане любят свою реку, гордятся ею; с «Волги» они как-то начинают Россию, и, где нет Волги, им кажется, что нет и России или что Россия там ненастоящая.
Волга, вероятно, самая мифологизированная русская река, колыбель русской «воли», вотчина Стеньки Разина и одновременно главная российская торговая артерия. Религиозный философ, писатель и публицист Василий Розанов, родившийся в Костромской губернии и учившийся в гимназии в Симбирске и Нижнем Новгороде, отправляется в путешествие по Волге, возвращаясь в места своего детства, и его путевые очерки об этом путешествии, опубликованные в 1907 году, становятся своеобразным манифестом русскости: «Много священного и чего-то хозяйственного. И «кормилицею», и «матушкою» народ наш зовёт великую реку за то, что она родит из себя какое-то неизмеримое хозяйство, в котором есть приложение и полуслепому 80-летнему старику, чинящему невод, и богачу, ведущему многомиллионные обороты».
На Волге Розанов находит цикличную и неподвижную русскую жизнь, не изменившуюся, на его взгляд, с XVII века. Здесь ему всё мило и непохоже на Петербург и Москву с их вечным стуком и лязгом: и «мягкие, влажные» удары колёс по воде, и общество на пароходе — вместо безликой толпы «молчаливое ласковое знакомство всех со всеми». Каждый разговор с попутчиком становится для Розанова поводом к изложению собственных философских идей, — скажем, разговорившись с крещёным евреем, автор формулирует целую антисемитскую теорию: «В густой массе евреи как-то перетирают друг друга; они несносны по виду (неэстетичны) и точно начинают взаимно ломать судьбу один другого. Они именно должны жить в рассеянии».
Розанов показывает Поволжье как особую цивилизацию: «Как давно следовало бы не разделять на губернии этот мир, до того связанный и единый, до того общий и нераздельный, а слить в одно». Внутри этот мир не гомогенен: даже воздух в Симбирске не тот, что в Костроме. При всей идеологической нагрузке, «Русский Нил» полон типично розановскими бытовыми деталями: в Нижнем Новгороде его радует техническая новинка — фуникулёр, из заевшего крючка на окне каюты Розанов выводит «целую метафизику народного характера», в Симбирске он мечтательно вспоминает о том, как гимназистом объедался вишнями в бесхозных садах. А наградой за длинный подъём на крутой берег был чай с малиновым вареньем — в путевом очерке Розанова находится, возможно, ключ к его главной философской максиме: «Что делать?» — спросил нетерпеливый петербургский юноша. — Как что делать: если это лето — чистить ягоды и варить варенье; если зима — пить с этим вареньем чай». Желательно, на Волге. — В. Б.
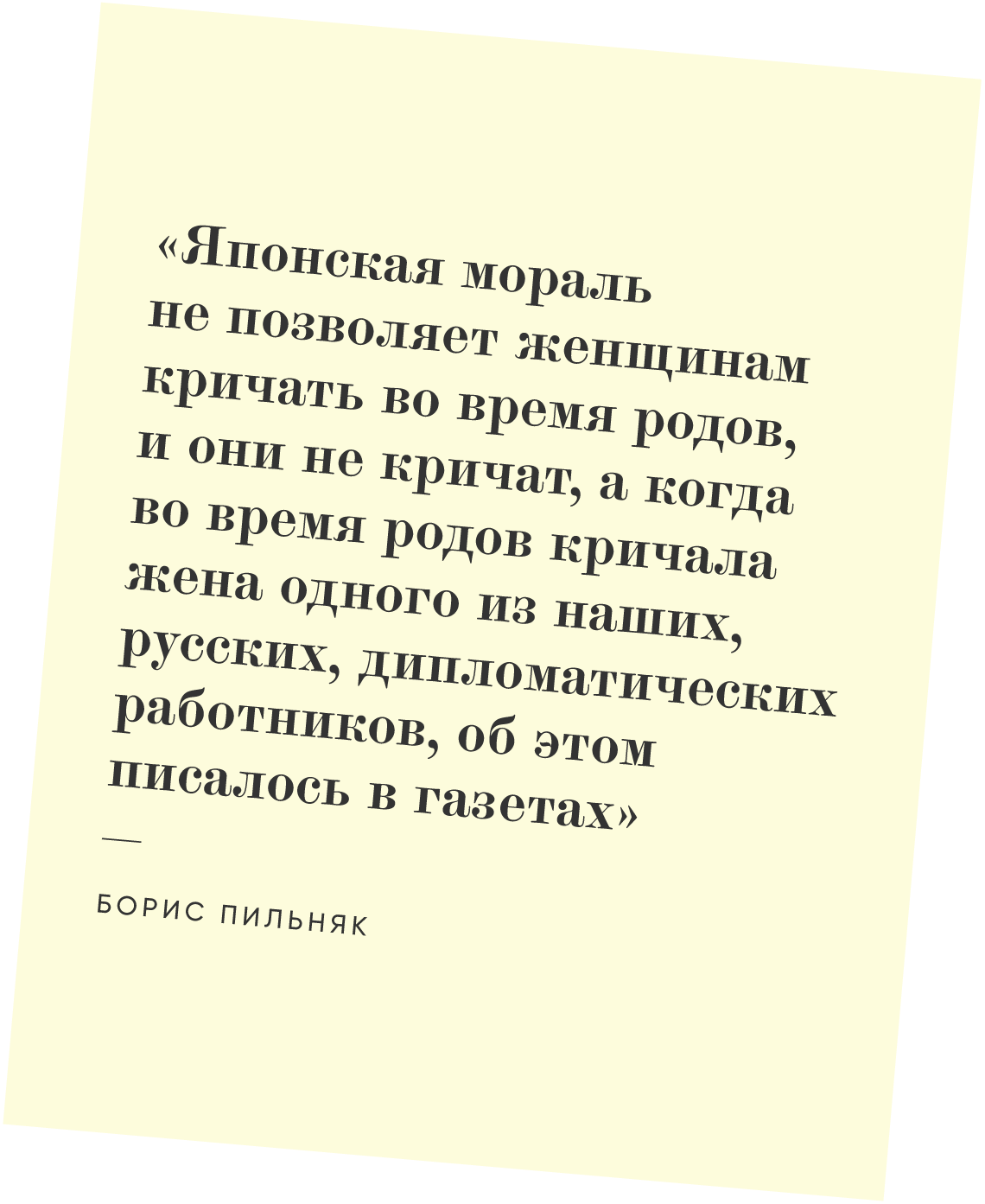
Михаил Пришвин. За волшебным колобком (1908)
— Приезжай, приезжай, — говорят мне все, — у нас хороший, приёмистый народ. Живём мы у моря. Живём в стороне, летом сёмушку ловим, зимой зверя промышляем. Народ наш тихий, смирёный: ни в нём злости, ни в нём обиды. Народ — что тюлень.
Тридцатипятилетний Пришвин (за плечами которого отчисление из гимназии в Ельце после конфликта с учителем географии — Василием Васильевичем Розановым, арест в Риге за участие в марксистском кружке, изучение немецкой философии в Лейпциге и опыт работы агрономом) начинает карьеру писателя с путевых заметок: свою первую книгу «В краю непуганых птиц» он привозит из этнографической экспедиции по Карелии, ради второй предпринимает куда более рискованное путешествие. «За волшебным колобком» — отчёт о поездке по Русскому Северу, которую сегодня назвали бы «экстремальной»: по берегу Белого моря от Архангельска до Кандалакши, пешком через Кольский полуостров, на лодке к Соловецким островам, на рыболовецком траулере вокруг Канина Носа и, наконец, на пароходе в Норвегию. Символизм начала века требует в каждом крике чайки расслышать отзвуки грядущих бурь — и Пришвин, следуя велениям эпохи, обрамляет путевые заметки рассуждениями о поиске «всемирной стихийной души» и «особенного, мрачного бога», а в северных озёрах и ручьях видит «серебряные ручки к чёрной, мрачной гробнице». Но за вычетом этих виньеток тон книги предельно далёк от мрачно-пророческого: главный предмет интереса Пришвина — даже не природа, несравненным наблюдателем которой он станет позже, а люди, их говор, их обычаи. Ловля сёмги и охота на косатку, «хитренькие взгляды» монахов на Соловках и диакон, что бегает вокруг берёзки за «куропатью», рассказы старого лодочника-помора о том, как мотало его по Белому морю на льдине, куда он с другими охотниками высадился на промысел морского зверя. Последняя, «норвежская» часть книги пронизана традиционным для русского путешественника настроением — почему, стоит переехать через границу, тебя окружают чистота, порядок и достоинство, а у нас всё так. Пришвин напишет ещё книги о путешествиях в Крым, Казахстан и Заволжье, к староверам и граду Китежу — а на Север вернётся уже в 1930-е и привезёт отсюда книгу «Берендеева чаща» и фотографии Соловецкого монастыря, уже превращённого в лагерь. — Ю. С.
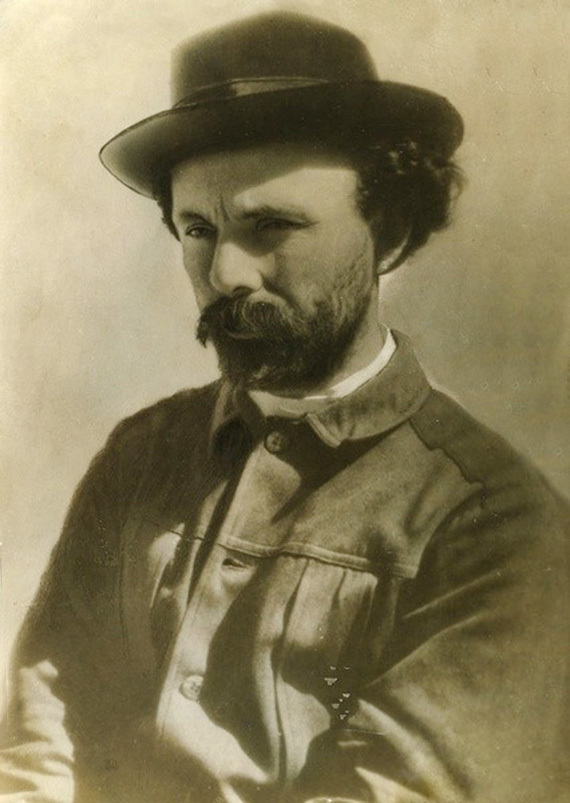
Михаил Пришвин. 1913 год

Виды Соловецкого монастыря. 1900 год
Павел Муратов. Образы Италии (1911–1912)
Говоря о Риме, прежде всего помнишь не об его истории, его людях, древних памятниках и художественных сокровищах, но об этом чувстве Рима, записанном на страницах своей жизни.
Самый полный и подробный путеводитель по Италии и одновременно главная русская книга об итальянском искусстве. Энциклопедист, прозаик, историк и переводчик, Муратов демонстрирует ещё фантастический талант осмысления, мастерство точных обобщений. Название неподъёмного трёхтомника в точности соответствует его содержанию: Муратов создаёт именно что образы городов, концепты Рима, Венеции и Флоренции, объединяющие все памятники и достопримечательности в единое художественное целое. В отличие от прочих русских писателей начала прошлого века, Бенуа или Мережковского, для Муратова в Италии ценны не сами произведения Леонардо или Бернини, вернее, не только они. Сама Италия, каждый из её городов для него — самостоятельное произведение искусства, плод человеческой фантазии и силы духа.
Муратов не стремится перечислить все картины, хранящиеся в венецианском музее Коррер или галерее Академии, — чтобы понять город, достаточно определить самого венецианского из всех живописцев, и им становится Карпаччо : посмотрел в музее, на выходе сверил увиденное с окружающим ландшафтом. Точно так же не ставит перед собой задачи описать все достопримечательности Рима — хватит тех, которые ярче всего показывают, каким город был при Цезаре, каким при папе Сиксте IV, где надо оказаться, чтобы почувствовать себя в той или иной эпохе, буквально — с какой стороны в город въезжать, по какой улице идти, о какой книге вспомнить по дороге, какую мелодию насвистывать. Муратов размечает культурную карту Италии для многих поколений русских читателей и создаёт её легенду, с которой так или иначе соотносят себя его последователи, от автора «Набережной неисцелимых» до обычного туриста, делающего селфи на фоне Колизея, — образ вечной мечты просвещённого русского человека, идеального воплощения европейского (а значит, и русского) духа, его небесной родины, раскинувшейся на самых живописных холмах. — И. Ч.

Дворец дожей. Венеция. Фотография Лео Верли. 1910 год
Владимир Арсеньев. По Уссурийскому краю. Дерсу Узала (1921)
Дерсу повернул голову в сторону шума и громко закричал что-то на своём языке.
— Кому ты кричишь? — спросил я его. — Наша прогнал чёрта из юрты, теперь его сердится — лёд ломает, — отвечал гольд.
И, высунув голову за полотнища палатки, он опять стал громко говорить кому-то в пространство.
Ещё в юности Владимир Арсеньев страшно заинтересовался Дальним Востоком — под влиянием своего преподавателя в юнкерском училище, путешественника Михаила Грум-Гржимайло . И, когда позднее получил назначение на службу во Владивосток, вспомнил о своём старом увлечении, принялся изучать местную историю и начал путешествовать по окрестностям, составлять карты. В итоге военный превратился в серьёзнейшего учёного и всю оставшуюся жизнь посвятил науке.
Но славу ему принесли не научные открытия, а две книги о путешествиях по лесам Дальнего Востока в компании нанайца Дерсу Узалы. В них Арсеньев подробно документирует свои экспедиции: топографию Сихотэ-Алиня, тропы, ведущие к морю, места обитания тигров и изюбрей. Но, конечно, самое яркое тут — сам тип героя. Узала — классический человек природы, «благородный дикарь» . Он знает тайгу как свои пять пальцев, отлично охотится, верит в то, что туман — это потеющие горы, разговаривает с тигром («Наша дорога ходи, тебе мешай нету. Как твоя сзади ходи?»). Наконец, именно он вводит в сюжет книги целую галерею дальневосточных аборигенов, заставляет их действовать: например, старого китайца — переживать просветление и возвращаться в оставленную семью. Но в первую очередь Дерсу у Арсеньева — представитель вымирающего народа. В книге постоянно подчёркивается: жили себе нанайцы и другие народы здесь, пока не пришли русские, китайцы и корейцы, не вырубили леса и не разрушили их тихую жизнь. В этом смысле «Дерсу» — травелог по уходящей в прошлое территории, которую уничтожает цивилизация и русская колонизация. Лишнее доказательство того, что мир, описанный Арсеньевым, кончился — судьба главного героя. Реальный, не книжный Дерсу в итоге переехал ненадолго в город, жить там не смог, ушёл в родные леса, а по дороге его убили. — И. Ч.
Илья Эренбург. Виза времени (1922–1931)
В парижском «Салоне независимых» самые «левые» картины подписаны чешскими именами. О технике «Потёмкина» здесь написано куда больше, чем в Москве. В театрах идут пьесы дадаистов. Степенный город как бы срывается с места, превращаясь в добровольца-разведчика.
Живущий в Европе русский писатель Илья Эренбург пишет для советских газет («Вечерней Москвы» и — позднее — «Известий») заметки о своих путешествиях. В первую очередь о столицах: молодых и напористых Варшаве и Праге, северных и грубоватых Стокгольме и Осло, традиционных культурных центрах Париже и Берлине. Для него здесь ценны не достопримечательности, а дух современности, художественные течения и журнально-газетные диспуты. Очевидно, Скандинавия для него — не горы, озёра и фьорды, а земля Стриндберга, Ибсена, Гамсуна и Грига. Париж важен потому, что полон литературным авангардом. Берлин дышит экспрессионизмом. Провинциальная Германия «болеет Америкой», здесь строят фантастические здания из стекла и бетона, вокзалы похожи на храмы. В итоге серия репортажей из кафе и галерей складывается в подробный путеводитель по идеям и модам межвоенной Европы.
Значение «Визы» и вообще всех книг и статей Эренбурга не понять без контекста времени их появления. Для советского читателя тридцатых-сороковых годов и далее Эренбург прорубил окно в мир, не больше и не меньше. Он был абсолютно «своим» и для парижской богемы (дружил с Пикассо и кругом сюрреалистов), и для советской литературы. «Виза» (а также написанные позже мемуары «Люди. Годы. Жизнь») была один из очень немногих, говоря современным языком, инсайдерских источников информации о том, что происходит в Европе: какие идеи правят ею, чем занято общество, каков вообще стиль жизни. И по прошествии лет ценность книги не слишком сильно поменялась. О европейской культуре писали много и на разных языках — но не в таком диапазоне (от Варшавы до Парижа) и не настолько изнутри. Теперь это редкая русскоязычная хроника художественной и интеллектуальной жизни Европы ревущих двадцатых — подробная и внимательная. — И. Ч.

Кафе-дю-Дом, Париж. Фотография Андре Кертеса. 1925 год
Кузьма Петров-Водкин. Самаркандия: из путевых набросков 1921 года (1923)
Изъеденный с головы до пяток ночными москитами, я хожу ночевать на крышу у тюбетеечного базара.
На крышах особый город: здесь проводят вечера и ночи.
Крышами женщины ходят в гости друг к другу.
Сверху не видно улиц. Заросшие травой и маком, здесь свои улицы и площади.
Хотя бы и слабый ветерок отгоняет не видимых глазом насекомых.
Хорошо раздуваются лёгкие: кажется, из глубины неба накачивает их воздух.
Звёзды, звёзды!
Специфически советская форма травелога, которая обычно пряталась под именем «очерк», во многом выросла из орнаментальной прозы Серебряного века. На стиль записок художника Петрова-Водкина, в 1921 году побывавшего в Самарканде в составе археологической комиссии, предположительно, повлияли очерки Андрея Белого, посвящённые поездке в Египет (1912). У Белого можно найти и свойственные художнику рассуждения о колорите пустыни — «Назовите же цвет, в который одета пустыня!», и ту же фаталистическую «восточную» философию, что у Петрова-Водкина: «где-то близко от весёлого пира из песков, веков, тысячелетий бредом просунулась громадная, безносая голова» (Белый, там же).
Серебряный век в лице Белого незаметно ходил за спинами советских писателей, обсуждавших, каким должен быть «краеведческий очерк», все двадцатые годы, и изобразительная, живописная, эмоциональная перспектива, ранним примером которой стала «Самаркандия», оказалась в этом случае очень важна. «Описание края художниками слова играет громадную, доселе не оценённую роль; художники должны ещё стать краеведами, этнографами и отчасти географами» (Андрей Белый. «Ветер с Кавказа», 1928). Большевикам, создававшим соцреализм, была близка предлагавшаяся Белым идея «научной поэмы, воспевающей картину жизни народов СССР». Научная поэма невозможна — эмоции перевесят и любые факты, и любой анализ. Как раз это и было нужно. После 1934 года советский травелог стал эмоциональной беллетристикой, правда, уже совсем не такой прекрасной, как очерки Белого и Петрова-Водкина. — Ф. К.
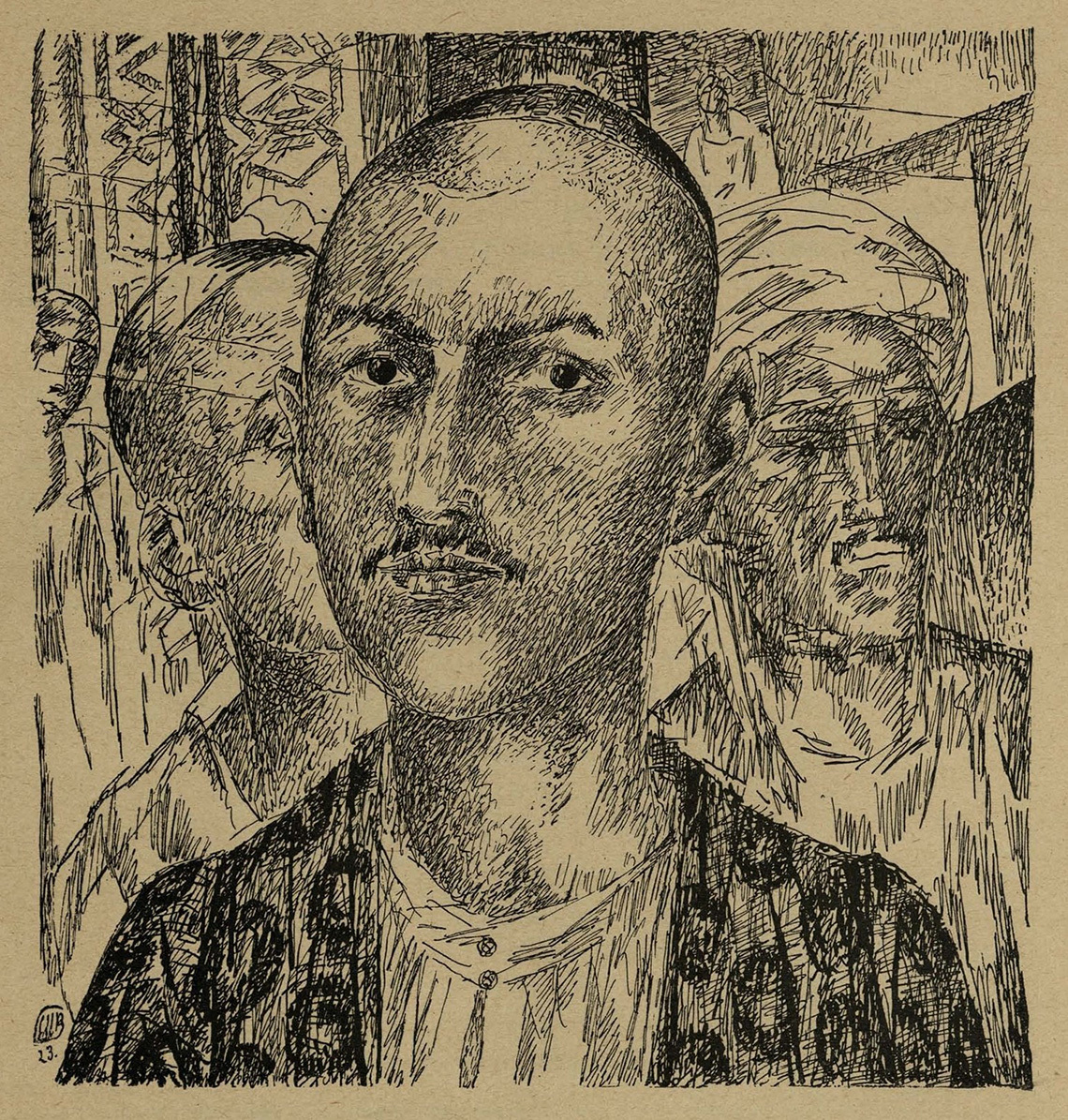
Кузьма Петров-Водкин. Самаркандия. Из путевых набросков. 1921 год

Лариса Рейснер. Афганистан (1925)
И всё-таки, несмотря на пестроту красок, блеск и внешнюю упоительную красоту этой жизни, меня обуревает ненависть к мёртвому Востоку. Ни проблеска нового творческого начала, ни одной книги на тысячи вёрст. Упадок, прикрытый однообразным и великолепным течением обычаев. Ничего живого... Лучше всего сады и гаремы.
Советской формой травелога был очерк, сочетавший модернистскую беллетристическую технику с мощным идеологическим зарядом. Не случайно, что критики двадцатых-тридцатых годов единодушно присвоили пальму первенства и статус матери-основательницы советского очерка именно Ларисе Рейснер. Дитя высокой петербургской культуры Серебряного века, дружившая с Мандельштамом, Гумилёвым и Вивианом Итиным , к двадцати годам уже имевшая солидный опыт литературной работы, в 1917–1920 годах обратилась, по выражению Троцкого, в «Палладу революции». В её стиле пафос борьбы, военный опыт сочетаются с точностью выражений, большой литературной эрудицией и игрой на гендерных ожиданиях (Рейснер была настоящая femme fatale ).
В 1921 году муж Рейснер Фёдор Раскольников, бывший командующий Балтийским флотом, в качестве советского посла отправился в Афганистан заключать договор о дружбе двух новых государств. Рейснер была в составе этого посольства. Написанная по итогам этого путешествия книга — свидетельство того, что советский язык описания Востока был ещё только в начале своего пути, колебался между имперским ориентализмом, делившим мир на дикость и цивилизацию, и классовой теорией с её угнетателями и угнетёнными. «Афганистан» — книга красивая и полная подробностей, что во многом объясняется исключительностью авторской позиции: как женщине Рейснер удалось заглянуть за многие закрытые двери и прийти, например, к выводу, что «пожилые женщины предпочитают перец, нежное мясо ягнят и сладости». Её восточный дневник — работа большого мастера. Чего стоят одни только мимолётные поэтические штрихи — вроде директора ткацкого завода, толстого настолько, что в сборках его живота однажды во время купания задохлась лягушка. — Ф. К.

Лариса Рейснер в Афганистане. 1922–1923 годы

Группа музыкантов и танцовщица. Кабул, Афганистан. Начало XX века
Владимир Маяковский. Моё открытие Америки (1925–1926)
Если американец автомобилирует один, он (писаная нравственность и целомудрие) будет замедлять ход и останавливаться перед каждой одинокой хорошенькой пешеходкой, скалить в улыбке зубы и зазывать в авто диким вращением глаз.
В 1925 году Маяковский совершает одно из важнейших путешествий в своей жизни — отправляется в Америку. Путь его проходил через Германию, Францию, Испанию, Кубу и Мексику. Маршрут такой сложный потому, что у поэта не было визы — и получил он её только на границе со Штатами.
Как и вся проза Маяковского, «Открытие» — вещь дробная, броская, лаконичная, написанная телеграфным стилем. На каждое предложение — один, исчерпывающий образ. Житель Нью-Йорка читает газету, сняв штаны — чтобы их не испачкать. Грабители идут на дело, но прежде советуются с адвокатом, как совершить преступление с минимальным риском.
Поэт будущего отправляется в город будущего — и, конечно, разочаровывается. Штаты Маяковского — мир, в котором всё имеет цену, а жизнь, даже художественная, строго регламентирована. Нью-Йорк полон дельцов, Чикаго и Детройт — города-фабрики. Новое искусство тут не принимают («когда человек «света» идёт в кино, он бессовестно врёт вам, что был в балете»). От небоскрёбов и метро ждут не торжества техники, а удобства. Технократический мир будущего, каким его видели футуристы, здесь победил, но перерождения человека за этой победой не последовало. — И. Ч.

Владимир Маяковский в Нью-Йорке. 1925 год
Борис Пильняк. Корни японского солнца (1927)
Народ создал такой язык, на котором нет слов брани. Народ создал такую манеру обихода, которая обязывает к вежливости. Японская мораль не позволяет женщинам кричать во время родов, и они не кричат, а когда во время родов кричала жена одного из наших, русских, дипломатических работников, об этом писалось в газетах.
Путешествие в Японию Борис Пильняк, тогда ещё популярный писатель-«попутчик», совершил в 1926 году — всего через полтора года после восстановления дипломатических отношений между СССР и Японией — по приглашению Японско-русского литературно-художественного общества. «На второй день моего приезда я был уже сотрудником крупнейшей демократической японской газеты «Осака-Асахи-Симбун», газеты с полуторамиллионным тиражом» — благодаря этому Пильняк, несмотря на постоянный полицейский надзор, сумел повидать «и такую Японию, которая европейцам не видна», а статьи, писавшиеся по свежим впечатлениям, позднее составили основу «Корней».
Как и многим европейцам по сей день, Япония показалась Пильняку другой планетой, где всё наоборот: «В Японии почётно самоубийство, в Европе оно почитается позором. <...> Японцы строгают фуганком, двигая им к себе, европейцы строгают фуганком, двигая его от себя». В Японии не стыдятся естественных отправлений, наготы и секса, у них общие уборные для мужчин и женщин, а проституция считается почётной профессией. Здесь своя мораль, этика и эстетика, в доме каждого крестьянина хранится шестисотлетняя родовая сабля, японцы не знают страха индивидуальной смерти, но бесконечно боятся уронить память предков.
Однако писатель не просто любуется экзотикой, а пытается разрешить парадокс: каким образом эта древняя культура, чьи тысячелетние обычаи «поистине крепки, как клыки мамонта», смогла модернизироваться? Япония, «имеющая супердредноуты, газеты с миллионным тиражом и вертикальные тресты, одной ногой ещё стоит в средневековье. Возьмите непрекращающиеся распарывания животов… культ демонов и неистребимый институт наложниц». Ответ на этот вопрос писатель видит в национальном характере, воспитанном самой природой Японского архипелага: пусть на взгляд туриста он очень красив — это «вулканическая держава организованного нищенства», землетрясений, плесени и дождей. Его единственное природное ископаемое — национальная воля и трудолюбие, благодаря которым каждый плодородный пятачок возделан, а леса высажены по ниточке: писатель даже полагает, что японская нация за сорок лет увеличила свой средний рост на два вершка усилием воли.
После публикации «Корни» были раскритикованы в «Правде» за неверную политическую оптику, «играющую на руку японскому империализму». В тот момент это сошло писателю с рук; уже через несколько лет ему пришлось отрекаться от своей блестящей книги, но это не помогло. В 1938 году Пильняка расстреляли по сфабрикованному обвинению в шпионаже в пользу Японии, книги его были изъяты из обращения на десятилетия. — В. Б.

Модницы в районе Гиндза. Токио, 1928 год

Гейша. Киото, июнь 1927 года
Николай Рерих. Сердце Азии (1929)
Для знатока положения, который потрудился пройти необъятные пространства Азии, Дацаны Шамбалы зазвучат как рог призыва. Для знающего эта новость получит значение реальности, многозначительной для будущего. В этом кратком сообщении человек, прикоснувшийся к истокам Азии, почувствует, насколько живы и реальны в Азии так называемые пророчества и легенды, идущие из незапамятной древности.
Центральноазиатская экспедиция Николая Рериха сама по себе окружена легендами и теориями заговора: исследователи до сих пор гадают, в чём была её главная цель — поиски Шамбалы? Секретное задание ОГПУ? Создание единого монголо-сибирского государства? Попытка привить побег коммунизма к буддийскому древу? По версии самого Рериха, им руководил всего лишь интерес к изучению памятников древности; так или иначе, это одна из самых захватывающих историй XX века. Экспедиция продолжалась пять лет, маршрут её проходил от севера Индии через непроходимые горные хребты, Кашмир, Синьцзян, Алтай, Тибет и Монголию. На подходах к Лхасе экспедиция едва избежала гибели: тибетские военные пять месяцев держат её в снегу на горном плато. При этом, помимо скрытых от посторонних глаз результатов и экзотических артефактов вроде «Письма Махатм советскому правительству», результатом её стали многочисленные археологические находки, древние манускрипты, этнографические исследования, более пятисот картин, написанных Рерихом за время экспедиции, и заведомо неполный отчёт о ней, содержащийся в книге «Сердце Азии».
Рерих пишет о местах, где ему довелось побывать, как художник. Джунгли сменяются снежными завалами, зелёный цвет — белым. Одежда жителей Гималаев напоминает ему цвета византийских икон. Скальные монастыри в горах он видит «со стороны композиционно-художественной». Помимо поэтических описаний, Рерих умещает в «Сердце» целую хрестоматию буддийских легенд — о трубах и колокольчиках храмов и монастырей, о китайском императоре, который хотел провести ламу, усадив его на священные книги, но те превратились просто в кипу бумаг, и про русского бунтаря, строителя города в пустыне Гоби, которого местные называют Джеламой. Наконец — в точности следуя постулатам теософии — передаёт легенды о пребывании в Индии Иисуса Христа, а местами превращает повествование в медитацию о поисках истины. Рерих грезит о мистическом браке Востока и Запада, в котором теория относительности и звучание терменвокса соединяются с древними буддийскими легендами, и видит себя как вестника этого высокого союза — если не в действительности, где его истинные мотивы остаются загадкой, то в созданной им книге. — Ю. С.

Николай Рерих. Помни. 1924 год. Музей Николая Рериха, Нью-Йорк
Осип Мандельштам. Путешествие в Армению (1931–1932)
Что сказать о севанском климате?
— Золотая валюта коньяку в потайном шкапчике горного солнца.
Само путешествие Мандельштама в Армению — важный этап в биографии поэта. К моменту этой поездки Мандельштам несколько лет не писал стихи, занимался переводами, был редактором газеты «Московский комсомолец». Но и эту работу потерял — был в ужасном финансовом положении, буквально голодал. Чтобы спасти его, покровительствовавший поэту Николай Бухарин помог оформить командировку на Кавказ, подальше от писательских дрязг, скандалов и быта. В Армению, по воспоминаниям Надежды Мандельштам, поехал, не планируя возвращаться: навсегда.
«Путешествие» написано, когда все эти планы уже рухнули, поэт вернулся в Москву. И эссе превращается в хронику перерождения, возвращения к стихам. Из прозы, видов, встреченных персонажей рождаются странные, парадоксальные образы. Озеро Севан словно кто-то подковал. Облака «служат» Арарату. От армянских церквей крошатся зубы зрения. Достаётся не только стране — этот новый взгляд распространяется на персонажей. Поэт Безыменский — «чернильный купец». Лицо профессора Хачатурьяна обтянуто «орлиной кожей». На лбу друга, Бориса Кузина, сдвигается и раздвигается «гармоника басурманских морщинок». Президенту абхазской академии наук хочется передать привет от Тартарена из Тараскона — настолько он похож на весельчака и враля из романов Альфонса Доде.
Спустя сто лет после «Путешествия в Арзрум» Мандельштам следует по тем же местам, что и Пушкин, — и пересочиняет топос Кавказа. Теперь это уже не место колониальной политики, воли и непонятных нравов, а пространство чистой поэзии, которое само собой прочищает слух и зрение художника, позволяет ему увидеть мир по-новому. — И. Ч.

Осип Мандельштам (справа в нижнем ряду) у развалин Аванского храма в Ереване. 1930 год
Илья Ильф, Евгений Петров. Одноэтажная Америка (1937)
Нам было грустно от нью-йоркского счастья.
Ильф и Петров открыли для русской литературы Америку. Ещё до них в Соединённых Штатах побывали Горький и Маяковский, но они писали в основном о Нью-Йорке, а если забирались дальше, то ненадолго. Авторы же «Двенадцати стульев» пересекли страну с востока на запад и составили настоящий атлас Штатов. За три с половиной месяца они успели изучить в Америке, кажется, вообще всё — вплоть до системы выборов («приходит ракетир-политишен и шантажом или угрозами заставляет голосовать хорошего человека за какого-то жулика»). Небоскрёбы и светящиеся вывески, индейские резервации и фабрики, электрический стул (посещение тюрьмы авторам неожиданно организует Хемингуэй, с которым они в путешествии знакомятся) и мафия, разврат бурлеска и безвкусная, сплошь консервированная еда, коктейли и коллеги-литераторы. Наконец, реслинг и американский футбол.
Как и в романах, Ильф и Петров отмечают в окружающей реальности, быту самое главное — а потом мгновенно эти элементы пародируют, превращают в игру слов. И, конечно, в «Америке» им не изменяет их патентованное остроумие («жену он забыл внизу, а зонтик наверху»), умение строить парадоксальные сравнения («американские города похожи друг на друга, как пять канадских близнецов, которых путает даже их нежная мама») и наивный, как будто детский взгляд на мир (Хемингуэй оказывается «большим человеком с усами и облупившимся на солнце носом»).
Конечно, книга корреспондентов «Правды» и «Огонька» тенденциозна. Например, глава «Американская демократия» — злая сатира на американское общество: «Каждый раз, когда начинаешь перебирать в памяти элементы, из которых складывается американская жизнь, вспоминаются именно бандиты, а если не бандиты, то ракетиры, а если не ракетиры, то банкиры», — заключают авторы. Но даже тут симпатии Ильфа и Петрова к «американской жизни» очевидны: они всё равно пассаж о демократии завершают определением Штатов как «вольнолюбивой и работящей страны». — И. Ч.

Евгений Петров в посёлке Сан-Ильдефонсо с коренным индейцем Агапито Пина. Фотография Ильи Ильфа. 1930-е годы

Евгений Петров и супруги Адамс, сопровождавшие писателей в путешествии по Америке. Фотография Ильи Ильфа. 1930-е годы
Михаил Водопьянов. К сердцу Арктики (1939)
— Проверили? — спросил Шмидт.
— Да, под нами полюс, — подтвердил Спирин, — но я прошу пролететь за полюс.
— Это зачем?
— Для страховки.
— Правильно, — согласился Шмидт, — лучше перелететь, чем не долететь.
Сначала я запротестовал:
— Ведь не ошиблись же вы, ведь полюс под нами!
Но, подумав, согласился: лучше перевыполнить задание, чем недовыполнить.
У знаменитого лётчика Михаила Водопьянова была слабость — он хотел стать писателем. К тридцати пяти годам этот бывший крестьянский мальчик, получивший звание Героя Советского Союза за участие в спасении челюскинцев, стал частью сонма советских полубогов и ощутил кризис среднего возраста. «Мне скоро сорок, после сорока летать, говорят, уже не полагается» — с таких раздумий начинается его лучшая книга, посвящённая авиаэкспедиции 1937 года, доставившей на Северный полюс папанинцев . Это предприятие завершилось триумфом Водопьянова — и в качестве полярного лётчика, и в качестве литератора. В день, когда самолёт Водопьянова произвёл посадку на полюсе, в московском Реалистическом театре шла премьера его пьесы «Мечта» (1937): литературное alter ego Водопьянова, лётчик Бесфамильный, поднимал над декоративными торосами красный флаг. Театральный успех Водопьянова, в связи с которым публика приписывала ему лидирующую роль в полярном проекте, заставлял коллег ревновать. Отто Шмидт раздражался, когда слышал от журналистов, что идею дрейфующей полярной станции придумал Водопьянов.
При всей ходульности его «настоящих» художественных произведений, Водопьянову-очеркисту нужно отдать должное. Оптимистические главы, демонстрирующие прогресс советского полярного проекта, отсылают и к хорошо известным автору Нансену с Амундсеном, и к «литературе факта». Чего стоят полные иронии портреты товарищей по экспедиции! Кажется, именно Водопьянов придумал изображать руководителя дрейфующей станции Ивана Папанина как жовиального комического трикстера. Однако, как и положено в Арктике, хорошая погода мгновенно сменяется бурей, и нужно заметить, что драматические ночные полёты, посадки на льдину и сражения с белыми медведями до сих пор работают как надо. — Ф. К.
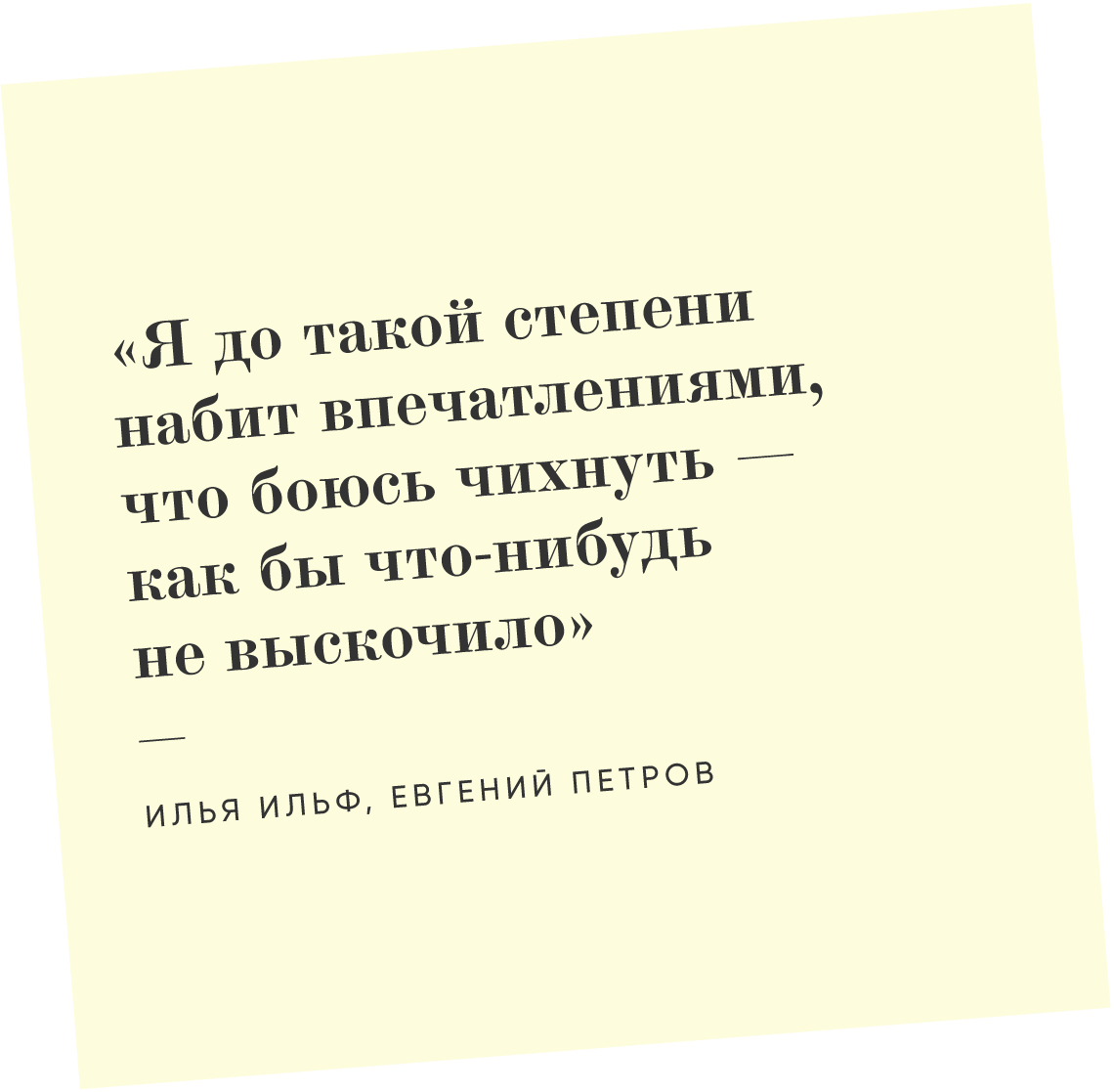
Владимир Солоухин. Владимирские просёлки (1956)
А попробуйте лечь под берёзой на мягкую прохладную траву так, чтобы только отдельные блики солнца и яркой полдневной синевы процеживались к вам сквозь листву. Чего-чего не нашепчет вам берёза, тихо склонившись к изголовью, каких не нашелестит ласковых слов, чудных сказок, каких не навеет светлых чувств!
Этот манифест деревенской прозы был опубликован почти одновременно с книгой Керуака «В дороге» (1957) и, по сути дела, повествовал о том же самом — о поиске настоящей Родины, которая скрыта настолько близко, что при её поиске можно обойтись самыми скромными средствами: «ночевать удобнее в избах крестьян и питаться у них же». Солоухин сообщает, что ради путешествия по Владимирской области отказался от посещения некоей соблазнительной страны, о которой мечтал с детства, — и, хотя это отдаёт советской пропагандой в стиле «не нужен мне берег турецкий», всё, кажется, несколько тоньше, дальше от агитпропа, ближе к Керуаку. Мы-то понимаем теперь, что оба писателя (почти ровесники) искали не только Родину, но и самих себя.
Разыгрывая стандартную роль городского недотёпы-путешественника, Солоухин, отправившийся в путь с очень похожими на сталинский агитпроп лозунгами, за восемьсот километров скитаний по Владимирской области приходит к совершенно новым вопросам — уже позднесоветским, хорошо знакомым и нам. Как и положено, всё идёт не по плану. Жена Роза отказывается возвращаться домой, усложняя жизнь путешественника, крестьяне не хотят пускать его на порог, в лесной чаще почему-то стоит диван, идиллическая старуха разбавляет молоко так, что пить невозможно, деревни не процветают, а торчат среди летней травы, как опустевшие беззубые рты, производства льют в реку кислоту, в монологах рыбаков и председателей, которые встречаются путешественникам среди восхитительных ландшафтов, то и дело без обиняков упоминаются кошмары предшествующих десятилетий, коллективизация и культ личности. Это текст, с которого в мире советских травелогов начинается оттепель. — Ф. К.
Юрий Казаков. Северный дневник (1960)
Бывают минуты, когда кажется, что живёшь ты здесь веки вечные и впереди у тебя ещё больше времени, и вовсе не нужно жадно пускаться в изучение, а может быть, самое важное сейчас — просто посидеть и посмотреть.
Жанр производственного очерка в конце двадцатых — начале тридцатых стал основным инструментом описания страны. Литераторы, иногда бригадами, иногда поодиночке, ездили по Советскому Союзу, изображая его как совокупность стремительно возводящихся предприятий. Утратив свежесть в сталинский период, этот жанр обрёл второе рождение в шестидесятых, когда начались попытки вернуться к идеалам «эпохи первых пятилеток». Позднесоветские травелоги балансируют между двумя полюсами: на одном утомительная газетная пропаганда, восхваляющая стройки коммунизма, на другом — художественная литература, которая стремится уйти от назойливой общественной жизни как можно дальше. «Северный дневник» Юрия Казакова, посвящённый плаванию писателя на сейнере «Юшар» вдоль берегов Белого моря, как раз один из таких опытов. Казаков касается производственной деятельности только формально, то и дело отвлекаясь от описаний рыбозаводов на флегматичные лирические отступления. Он отказывается даже от этнографии, другой стандартной цели путешествующих писателей. Его интонация — опустошённая: бесконечный полярный день, на крыльце сидит сторожиха и дремлет, надо писать о трудовом подвиге, а хочется думать о старухе почтальонше, как ей одиноко живётся. — Ф. К.

Кемь. Побережье Белого моря. 1964 год
Андрей Битов. Уроки Армении (1969)
Есть вещи, про которые невозможно сказать, что ты их когда-то увидел впервые, — они у тебя в крови. Я видел такой дворик впервые, но это фраза для протокола. Я знал его всегда — и это будет гораздо точнее....
В 1967 году 30-летний Андрей Битов приезжает в Армению, чтобы написать небольшой журналистский очерк, но получается целая книга — хитро скроенный сборник вольных эссе. В некотором смысле Битов развивает тот образ Кавказа, который создал Мандельштам: земля, которая «прочищает глаза», меняет оптику и позволяет освободиться от суеты. Как и у Мандельштама, топография — развалины храма Звартноц, Севан, Арарат, монастырь Гегард — только отправные точки для вольной импровизации писателя. Арарат невозможно разглядеть, Севан величественен, но приносит автору лишь утомление и простуду. Древний монастырь Гегард — «чудо человеческой веры» — выводит Битова сначала к обязательным рассуждениям о беспощадности времени, а потом — наоборот: о том, что разрушает древности не только течение лет, но и человеческая воля.
Битов заканчивает книгу возвращением в Москву. Ему важно показать контраст между яркой и ясной Арменией, в которой всё видно лучше, ощущается сильнее, — и тусклой, лишённой чёткой топографии и ориентиров Москвой. После Армении ещё виднее, что в метрополии (да, колониальный дискурс тоже встаёт в финале в полный рост), в отличие от колонии, нет цельности, монолитности: «До чего же удивительно русское слово — безобразие. Без образа. Образа нет…» — И. Ч.
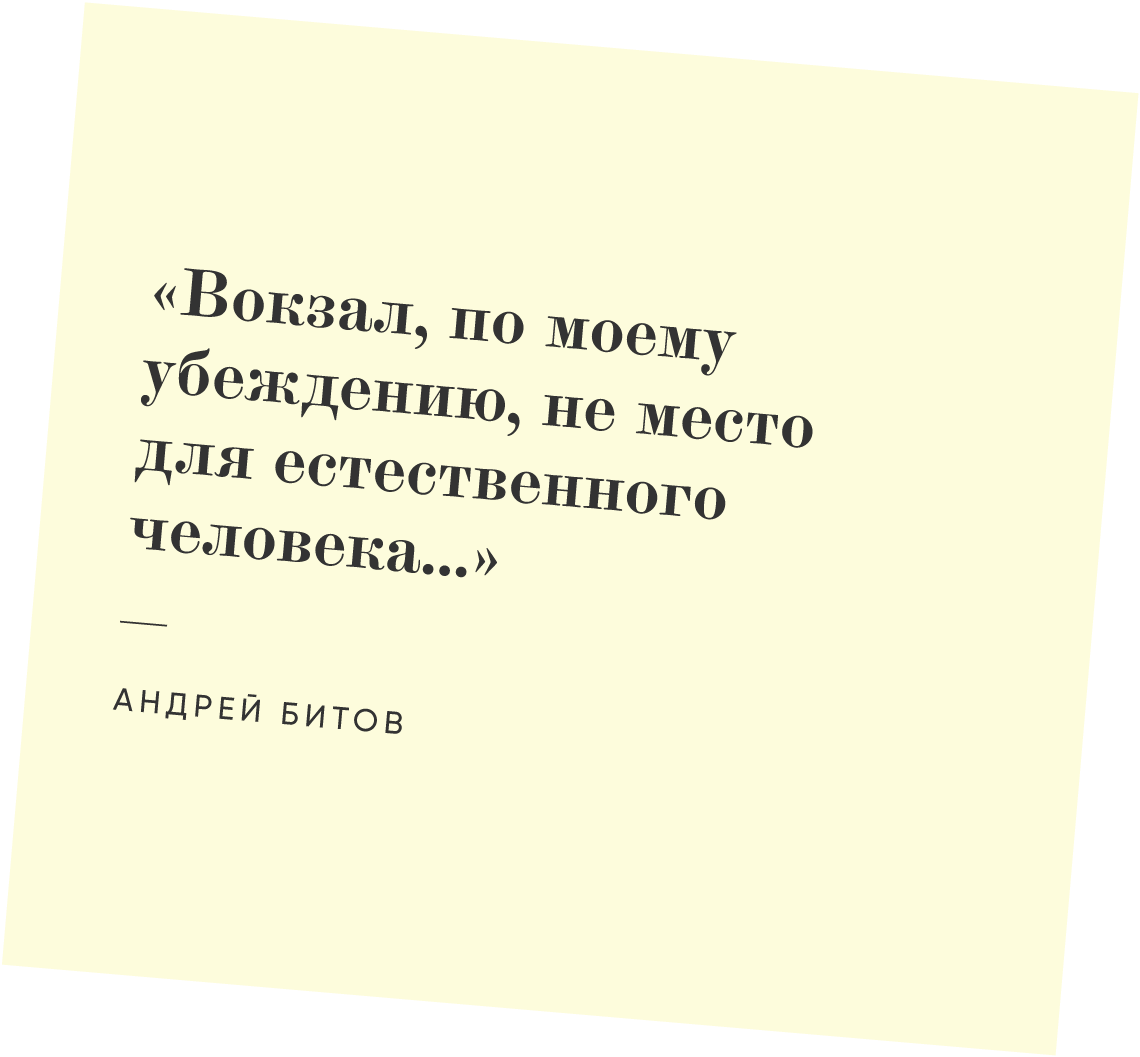
Юрий Сенкевич. На «Ра» через Атлантику (1973)
Мы уже забыли весёлые времена, когда можно было свободно разгуливать по кораблю. Вся корма и весь правый борт практически целиком в воде. Вода почти полностью покрывает носовую палубу, и готовить пищу всё труднее, кроме того, «Ра» деформировался. Срединная его часть выгнулась, борта опустились, корпус вывернулся спиралью. Сухими (сравнительно!) остаются кусочек на самом носу да часть левой палубы вдоль кабины. Внутри хижины тоже несладко. Ящики плавают, на них плавают наши постели. Временами, когда приходят особенно большие волны, постели встают на дыбы. Крыша прогнулась, а пол выпятился, и передвигаться по хижине возможно лишь на четвереньках. Безусловно, наше плаванье не идёт ни в какое сравнение с «Кон-Тики». Там — морская прогулка с хорошей рыбалкой, здесь — пятьдесят дней борьбы за курс, за корабль, за жизнь.
В конце 1960-х норвежец Тур Хейердал, сделавшийся всемирно известным после плавания из Перу в Полинезию на плоту «Кон-Тики», решает проверить очередную свою гипотезу: в культурах Древнего Египта и доколумбовых цивилизаций Америки подозрительно много общего (пирамиды, мумии, иероглифы, трепанация черепа) — не могло ли случиться так, что египтяне в незапамятной древности доплыли до Мексики и привезли свои нравы и обычаи с собой? Как и с другими своими предположениями, Хейердал ставит опыт на себе: строит парусную лодку из папируса, собирает интернациональный экипаж (восемь представителей разных стран плюс голубь, селезень и обезьянка) и отправляется в путь от берегов Марокко, надеясь использовать силу Канарского течения и доплыть до Нового Света. Со второй попытки Хейердал добирается до Барбадоса, в составе его команды — советский врач Юрий Сенкевич, будущий ведущий телевизионного «Клуба кинопутешествий», его глазами мы и видим эту экспедицию.
Лодка «Ра» чрезвычайно элегантно выглядит на фотографиях, на деле это плавучий трансформер, в котором всё время что-то ломается, отваливается и даёт течь — а команде необходимо всё это прилаживать, перепривязывать или выбрасывать за борт. Изрядная часть этих заметок напоминает панические сообщения в мессенджере — порвался очередной линь или брас, форштевень трещит, корма уходит под воду! Восемь человек непрерывно заняты перекомпоновкой деталей утлого намокающего судёнышка — с тем, чтобы оно всё-таки куда-нибудь доплыло, — и одновременно притиркой друг к другу: психологическая совместимость в этом предприятии не менее важна, чем устойчивость судна. А тут ещё шторма, и грозный мыс Юби, и ядовитая медуза физалия. Но все тяготы снимаются интонацией рассказчика — доброжелательного и лёгкого человека, успевающего и починить весло, и вылечить заболевшего, и похвалить изжаренную на завтрак яичницу, и поразмышлять о безграничности океана, истории и человеческого познания. И эта интонация убеждает нас, что все барьеры, разделяющие людей, оказываются преодолимы — если видеть общую цель, не унывать перед лицом опасностей, а когда трудности отступят, пропустить вместе по стопочке. — Ю. С.

Юрий Сенкевич с обезьянкой Сафи во время экспедиции Тура Хейердала на папирусной лодке «Ра». Атлантический океан. 1969 год
Юрий Коваль. Избушка на Вишере (1975)
Хариусы мушкарят. Ловят мушку. Хариусы мушкарят, и мы мушкарим.
Советская линия «певцов русской природы» (так Паустовский однажды назвал Пришвина) была наследницей пейзажной традиции колониального травелога, эстетизировавшей дикий ландшафт, умалчивая при этом о скрывавшихся в нём социальных конфликтах. В XX веке из советских записок охотников почти исчезли ермолаи и бирюки с их жизненными драмами — фигура лесного анахорета, бродившего в тростниках с ружьишком и никого не критиковавшего, была одной из немногих форм культурно дозволенного эскапизма. Конечно, открыватели берендеевых чащ и озёр Мещёры иногда тоже призывались послужить государственному делу — Паустовский мог написать книжку о Березниковском химкомбинате (1931), а Пришвин — о Соловках и Беломорско-Балтийском канале (1933), но советскими очеркистами их делала не столько тема, сколько форма. Приблизительно к 1934 году советский травелог окончательно покончил с документальностью и дневниковостью — вместо последовательного и подробного изложения путешествия полагалось выдавать разорванный нарратив, причём беллетризованный. «Певцы природы» так и работали, рисуя ослепительные лесные пейзажи, вырванные из контекста — и географического, и социального.
Юрий Коваль был продолжателем этой линии. Его очерки о бесконечных блужданиях в лесах сделаны так, что понять, чем окрестности вологодской деревни Чистый Дор («Чистый Дор», 1970) отличаются от дебрей уральской реки Вишеры («Избушка на Вишере», 1975), невозможно. Более того, часто вообще неясно не только где происходит действие, но и в чём это действие, собственно, заключается. «Босой Старикашка идёт точно по нашему пути. Я упал в шикшу. Вандыши мигом залезают в банку с хлебными крошками». Всё это этнографическое остранение длится и длится, чарующее, как будто снятое на трясущуюся ручную камеру средним и крупным планом. «Избушка на Вишере», выпущенная в виде тоненькой цветной фотокнижки, предназначалась детям, но вообще это было футуристическое предвидение. Иногда ловишь себя на том, что разглядываешь один из современных вариантов травелога — инстаграм любителя загородных поездок, пропущенный через фильтр «сепия» и снабжённый поэтическим комментарием. — Ф. К.

Фотографии Виктора Ускова из фотокниги «Избушка на Вишере»

Василий Песков. Таёжный тупик (1983)
После расспросов — «а где же это растёт?» — старик подставил подол рубахи, но сказал Агафье, чтобы снесла лимоны в ручей — «пусть там до вечера полежат». (На другой день мы видели, как старик с дочерью по нашей инструкции выжимали лимоны в кружку и с любопытством нюхали корки.)
Василий Михайлович Песков был, вероятно, самым известным позднесоветским путешественником — причём путешественником профессиональным. Популярный с 1960-х очеркист, ведущий программы «В мире животных», автор множества публикаций, свою самую известную серию статей он выпустил в брежневско-андроповские годы — рассказав в ней о семье старообрядцев Лыковых, много десятилетий живших отшельниками в глухой хакасской тайге. Песков много раз, из года в год, посещал Лыковых, постепенно входя к ним в доверие и собирая всё новые сведения об их удивительной жизни. Несмотря на говорящий заголовок книги, путь Лыковых в 1980-х должен был казаться пусть экстремальным, но понятным эскапизмом: история людей, которые охотились без ружей, сами ткали себе одежду, не знали ни спичек, ни мыла, ни тем более газет и телефона, отказывались фотографироваться, — прогремела на весь Советский Союз и, может статься, вдохновила будущих выживальщиков. Песков умер в 2013 году, успев выпустить ещё одну книгу о Лыковых; последняя из их рода, 76-летняя Агафья Лыкова, до сих пор живёт в одинокой таёжной хижине, которую когда-то построил её отец. — Л. О.

Агафья Лыкова. 1980-е годы

Василий Песков. 1970-е годы
Владимир Каганский. Камчатский дневник (1993)
…Такого мира — каким его продолжают видеть на Камчатке — просто нет. Нет больше — и уже, по-моему, быть не может — «сильного богатого мудрого» Центра. Камчатка мыслит себя объектом внешних воздействий — от забот до насилия (колонизации), — тогда как она принуждена быть субъектом, выбирающим пути в веерах (прежде всего) геополитических альтернатив. Висящий в нынешней ментальной атмосфере полуострова вопрос: а что с нами будет? — симптом беспомощности воли, дефицита целеполагания. Где же вопрошение: чем мы хотим быть?
Самыми странными десятилетиями в истории русского травелога были последнее советское и первое постсоветское десятилетия. Тип литературы, в котором воплощалась страсть соотечественников к путешествиям, вдруг ушёл на задний план. Московский географ Владимир Каганский стал одним из немногих авторов, исследовавших причины этой позднесоветской аспатиальности, то есть равнодушия по отношению к пространству, в книге «Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство» (2001). Учёный писал, что советский ландшафт создавался иерархически организованной сетью административного подчинения, горизонтальные пространственные отношения между разными его частями не только игнорировались, но прямо пресекались, а люди, населявшие этот ландшафт до распада СССР, утратили навык видеть что-либо вне своего жизненного горизонта.
Камчатский дневник 1993 года позволяет увидеть, из какой практики выросла эта теория. Автор назвал эту свою поездку самой-самой и по удалению от Москвы, и «по полученным ландшафтно-экзотическим и интеллектуальным впечатлениям, потраченным деньгам и усилиям». Первая, «пунктирная» часть «Камчатского дневника» — отражение метода, предполагающего, что географ, находясь в экспедиции, должен скрупулёзно собирать дневные впечатления и не имеет права ложиться спать, пока не заполнит полевой дневник. Позже, как правило по возвращении из путешествия, наступает время для теоретической работы. Во второй части этого текста можно видеть, как частные наблюдения путешествия соотносятся с опытом других путешествий и осмысляются как проблемы.
Взволнованный стиль этого дневника, постоянно задающего вопросы, но не дающего на них однозначных ответов, кажется, замечательно передаёт дух времени. — Ф. К.

Долина гейзеров, Камчатка. 1991 год
Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images
Леонид Смирнягин. Йеллоустон. Дневник путешествия (2004)
Сколько ужасов претерпели переселенцы именно на этих участках пути! А сейчас мы проскакиваем Неваду за считаные часы в комфорте и беззаботности. <…> Партия Доннера потеряла тут последних своих волов. Мы же проехали этот отрезок по Интерстейт № 80 за полтора часа, в том числе по каньону за двадцать минут! Я бы провёл их в размышлениях над бренностью человеческого существования, коли был бы философом, но географу более пристало рефлексировать по поводу того, какую власть над пространством приобрёл человек всего за полтора столетия.
В августе 2001 года профессор-географ Смирнягин совершил своё первое путешествие по США, которое, как он выразился, можно было назвать «почти профессиональным» — «ведь ехал я на автомашине, а не на поезде или в автобусе и уж тем более не летел, и вёз меня не посторонний равнодушный дядя, а собственный зять». Автомобиль, позволяющий не только передвигаться в удобном темпе, но и периодически предпринимать пешие экскурсии, кажется, лучше всего соответствовал одному из его главных исследовательских правил: находясь «в поле», социальный географ должен попробовать все возможные способы передвижения, однако предпочтение должно отдаваться тем из них, которые позволяют рассмотреть страну в максимальных подробностях.
Дневник Смирнягина — профессиональная рефлексия постсоветского учёного, который от застывшей теории переходит к практическому познанию заграницы: «Shame on me, сколько всё же во мне накопилось ложного знания и полузнания о США. Печаль и скорбь!» Смирнягин постоянно сопоставляет (пост)советскую и американскую реальность. Наши экономгеографы считают, что настоящая промышленность — это заводы и железные дороги, а здесь, в Америке, они вытеснены на периферию. Уберите горы на горизонте, и эта индейская резервация будет похожа на окрестности Дмитрова. Йеллоустонская Долина гейзеров с точки зрения зрелищности не идёт ни в какое сравнение с камчатской. Золотые нивы Айдахо похожи на плотный ёжик волос на башке у русского бандита.
Впрочем, у науки нет национальности: по Америке, положив на откидной столик японского автомобиля свой дневник, едет настоящий географ, наследник Гумбольдта и Риттера, наблюдатель, постоянно пытающийся вывести из увиденных пространственных различий какие-то закономерности: «Интерстейты — это дырки в Пространстве, которые оно уступает человеку как бы с иронией, потому что основная его плоть остаётся недоступной с этих автострад. Это труба, из которой выбраться можно только на экзитах и вокруг которой воздвигнуты стены, непроницаемо отделяющие автомобилиста от реального Пространства, не считая неба». — Ф. К.

Водопад в Йеллоустонском национальном парке, штат Вайоминг, США. 2005 год
Scott Catron via Wikimedia Commons
Марина Москвина. Дорога на Аннапурну (2006)
…В Гималаях легко поются мантры и возносятся к небесам молитвы, это вибрация самих Гималаев. А ты произнеси мантру Высшей Радости в своём родном московском метрополитене, тверди её, бубни, дуди, жужжи, склоняй на все лады — среди этих скорбных, усталых лиц. Чтобы её громадная энергия, двигающая самой Вселенной, озарила всё наше бытие, в том числе во-он того прикорнувшего мужчину, на руке у которого большими печатными буквами написано: ВАНЯ.
Писательница Марина Москвина вместе со своим мужем художником Леонидом Тишковым и проводником Кази совершает восхождение к базовому лагерю великой горы Аннапурны. Травелог Москвиной, составленный, казалось бы, не так уж давно, заставляет почувствовать стремительный бег времени: подробностям этого недавнего путешествия почему-то удивляешься больше, чем подробностям травелогов столетней давности. Во всём похожие на нас москвичи едут в Гималаи, но не пользуются при этом интернетом и мобильным телефоном (которые упоминаются всего пару раз), «ловят частника», а не заказывают сетевое такси, чтобы доехать до аэропорта, и так далее. То, над чем смеётся Москвина в этом остроумном тексте, до сих пор смешит: и стихийная буддийская духовность обитателей Южного округа Москвы, и желание у подножия Аннапурны достать гитару и спеть «Лыжи у печки стоят», посвятив свой номер Юрию Визбору с Юрием Ковалём.
Зачем современному писателю во времена интернета и туристического бума писать о своём путешествии книгу? — ответ тоже не очень прост. Ни научных, ни информационных, ни, слава Будде, агитационных целей у травелогов теперь нет. Из-под всех этих прагматических целей эпохи модерна высовывается старинная идея путешествия ради самопознания. «Мир — просто зеркало, и мы отражаемся в нём», — замечает писательница. — Ф. К.

Горный массив Аннапурна. 2019 год
Bijay Chaurasia via Wikimedia Commons
Братья Ивановы. Записки кочевников (2009)
Степь — это серия повторений. Ландшафт плавно движется внутри себя, в нём нет неожиданностей, всё уже было. И чтобы почувствовать его неподвижность, надо как следует разогнаться на шоссе. Холмы сменяют холмы, долины — долины, эти юрты уже были и будут ещё.
Травелог в жанре эффектной и умной мистификации: искусствовед Станислав Савицкий создал весьма своеобразный арт-объект. Он пишет от лица зевак братьев Ивановых о Монголии. Объект выбран неспроста: мифические братья отправляются по стопам канонизированных путешественников и первооткрывателей, Пржевальского, Козлова и многих других. Вслед за ними Ивановы открывают Сибирь, трясутся в вагонах поездов, встречают странных провинциальных персонажей, делают остановки в райцентрах, заглядывают в дацаны. Конечно, над столетней давности мифом о Монголии Ивановы иронизируют, сталкивают его с убогой фактурой современного Улан-Батора, в котором вместо ярких персонажей и древностей им встречаются только блочные пятиэтажки и ржавые вывески. Едва ли не большую роль, чем собственно текст, тут играют фотографии с мест событий: провинциальные граффити, абсурдные надписи на поездах, многоэтажки в степях. Они и превращают книжку в настоящий постмодернистский проект, смешение цитат, пародий и абсурдных элементов. — И. Ч.

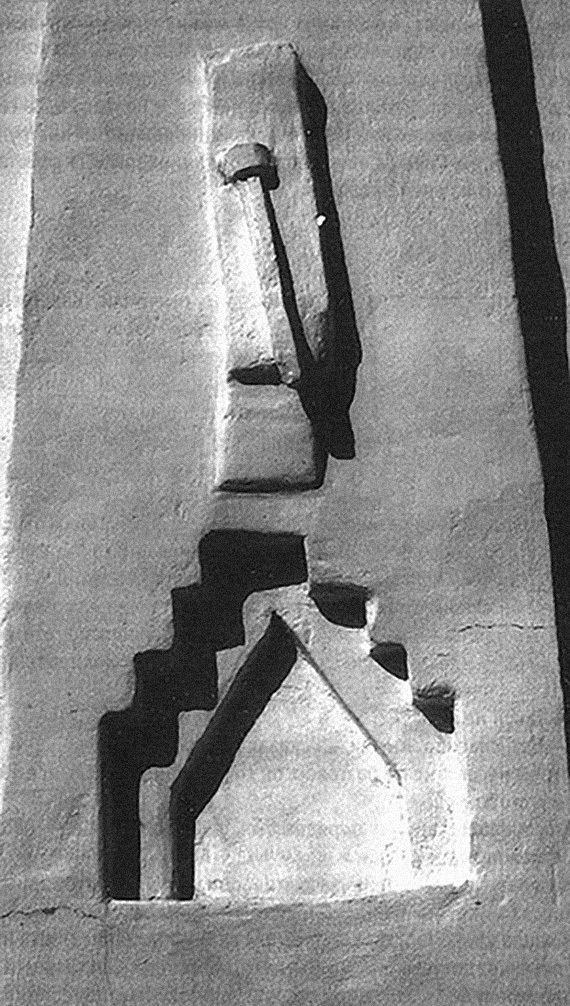
Фотографии братьев Ивановых из книги «Записки кочевников»

Станислав Курилов. Один в океане. История побега (2014)
Я вглядываюсь в лица. Весёлые, празднично одетые люди. Никто не подозревает, что в этом рейсе что-то случится. У нас разные судьбы. Они оказались здесь, чтобы весело провести отпуск, а у меня, быть может, считаные дни перед побегом в неизвестность.
Травелог Станислава Курилова — не про дальние странствия с последующим возвращением домой, а про прыжок в пустоту. Советский океанолог и инструктор по глубоководным погружениям, невыездной (в документах писали — «посещение капиталистических стран считаем нецелесообразным») Курилов в декабре 1974 года сбежал из СССР. Купил билет в круиз на теплоходе, который следовал по Тихому океану, а когда корабль подошёл, по его расчётам, достаточно близко к японскому берегу — просто прыгнул в воду. Проплыл сотню километров до берега — и после целой череды приключений (включая филиппинскую тюрьму) оказался в Канаде.
«Один в океане» — живой памятник воле к свободе, наглядная демонстрация того, на что может быть готов сильный, упёртый, талантливый человек ради другой жизни, возможностей путешествовать, видеть мир. И сжатый стиль повествования — под стать. Курилов коротко объясняет, как задумал побег, как выбирал время для прыжка с борта корабля. Так же спокойно рассказывает о фантастическом заплыве: как чуть не попал в винт лайнера, как заблудился в ночном океане и потерял все ориентиры. Так же невозмутимо — о первой встрече с филиппинцами, которые приняли его за зомби (пловец вышел на сушу рядом с кладбищем). Наконец, увязывает свой главный заплыв с прочими личными переживаниями: с тем, как в детстве потерялся в степи и чудом набрёл на жильё. А свой главный океан — с другими морями: болотистым Финским заливом и Байкалом. — И. Ч.
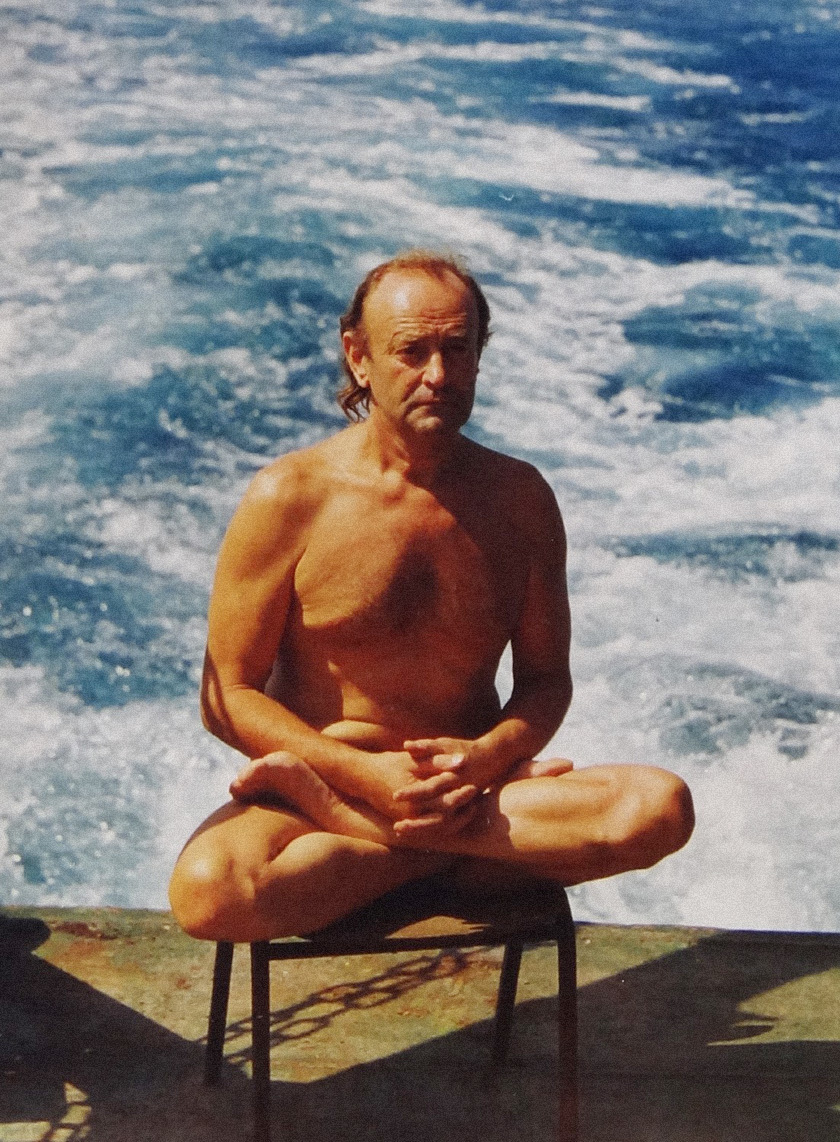
Станислав Курилов
Фёдор Конюхов. Сила веры. 160 дней и ночей наедине с Тихим океаном (2015)
Какую судьбу уготовил мне Господь? Я страдаю гордыней и высокомерием. Там, на земле, я думал, что в океане эти пороки станут чужими и другие тоже. Господи, утверди меня вновь на просторах Твоего океана.
Фёдор Конюхов — самый известный современный российский путешественник, обладатель фантастической биографии («Тигр выходил из Уссурийской тайги на меня, но остался я цел. Проломился лёд подо мной на пути к Северному полюсу, но не утонул я. На склоне Эвереста в Гималайских горах сходили снежные лавины, но не засыпали меня. Волны океана не раз опрокидывали мою яхту, но не залили её до конца»). Больше всего Конюхова прославили его одиночные путешествия — через Атлантический и Тихий океан, вокруг Антарктиды, вокруг света на воздушном шаре. «Сила веры» — одна из многих его книг, посвящена она тихоокеанской экспедиции на вёсельной лодке «Тургояк» (2013–2014). Сто шестьдесят дней одиночного перехода, без единой остановки, стали новым мировым рекордом. Книга построена как дневник — по одной диктофонной записи на каждый день путешествия; Конюхов подробно описывает свой маршрут, планирует новые экспедиции и посреди океана следит за новостями с суши (так, известие о том, что «город Севастополь и Крымский полуостров присоединили к России», вызывает у него «молитвенную радость»). Впрочем, гораздо чаще величественный вид океана побуждает Конюхова (не только путешественника, но и православного священника) вглядываться в себя. В этой книге мы встречаем духовные размышления, воспоминания о прошлом, наставления сыновьям — и истовое покаяние: «Талант, дарованный мне Господом, я расточил в путешествиях. <…> Со всех сторон окружён водой, бесконечной. В этой бесконечности я вижу будущее — нестерпимую кару в судилище, и Господь явит ко мне гнев». — Л. О.

Фёдор Конюхов во время подготовки к кругосветному плаванию на яхте «Адмирал Невельской». 1992 год
Валентин Титов/ТАСС
Дмитрий Данилов. Двадцать городов: попытка альтернативного краеведения (2016)
Мы медленно едем через село. Спросили у идущей мимо женщины — где тут станция Россия? Нету такой, сказала женщина, тут есть ветка, но она к шахте относится, это грузовая станция, туда не проехать. Жаль. Ну, что же делать.
В одном из интервью Дмитрий Данилов вспоминал, что на формирование его творческого метода, помимо Хармса и Добычина, оказала влияние и некая психотехника, предполагавшая перенастройку восприятия на радикальное остранение. Главным предметом остранения при этом неизбежно становилась повседневность — многоэтажные дома превращались в гигантские объекты, испещрённые рядами симметричных отверстий. Книга очерков о российских городах, написанных Даниловым в 2007–2009 годах в должности обозревателя журнала «Русская жизнь», в сущности, отвечает этой идее. Автор описывает «странные» нетуристические города вроде Брянска, Череповца или Тамбова, «странные» объекты и «странных» людей, населяющих эти локации, стараясь «придать этим текстам художественное измерение». Даниловское «художественное измерение» — способ разрешить парадокс, скрытый в российском повседневном ландшафте: то самое хорошо знакомое каждому его обитателю амбивалентное «ненавидя люблю», о котором замечательно сказано в пьесе Данилова «Человек из Подольска». Избегающее всякого пафоса и, скажем так, телесно ориентированное альтернативное краеведение Данилова отлично подойдёт современному горожанину, который устал от музеев, достопримечательностей и других порождений «больших нарративов» прошлого. — Ф. К.
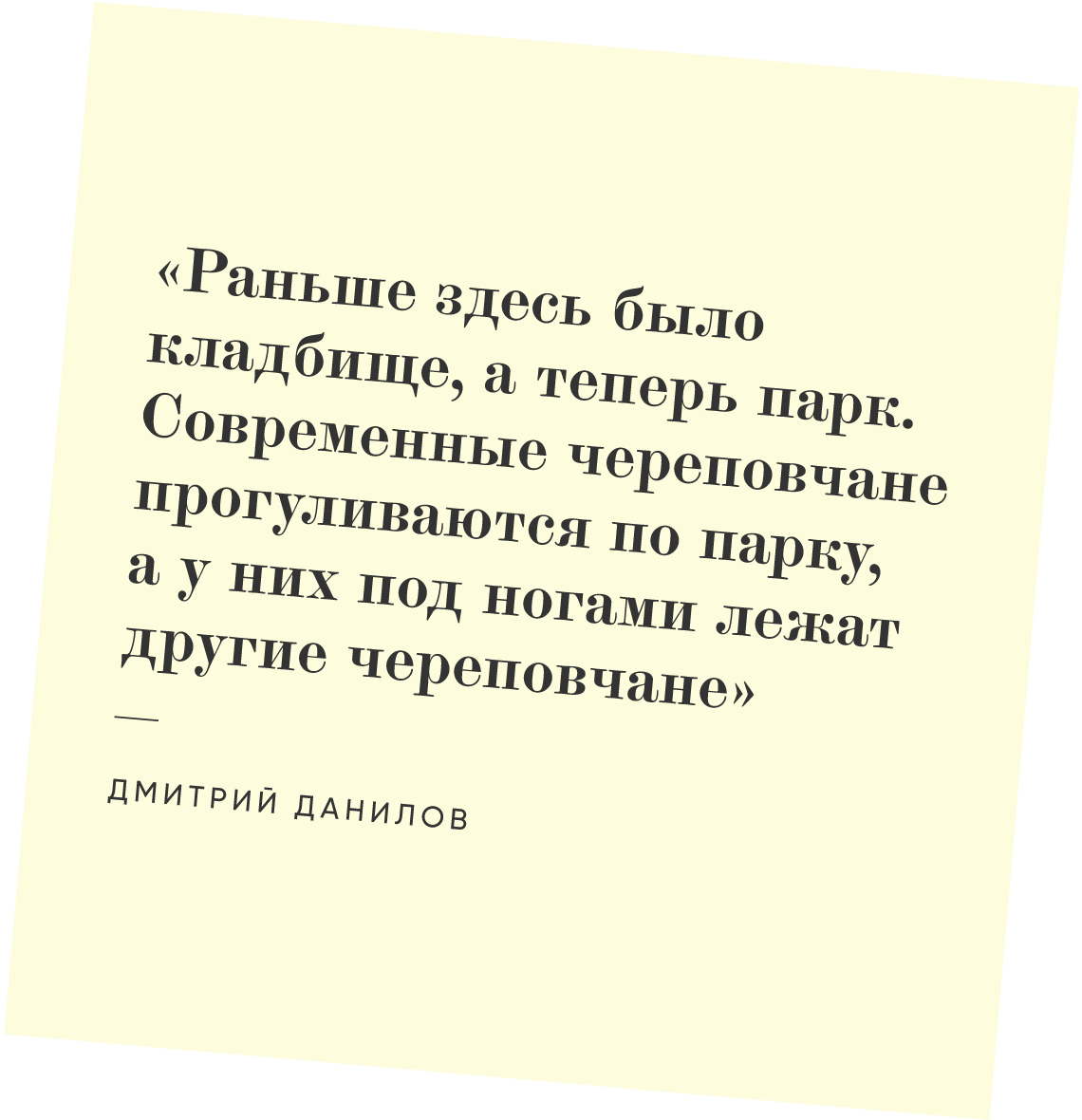
Александр Стесин. Африканская книга (2020)
— Да что вам от нас нужно? — дежурная переходит на английский. — Вы приезжаете в нашу страну — зачем? Я знаю зачем. Вы печётесь об африканском ребёнке, для вас он — символ, и если он выживет, это будет вашей победой. Я это понимаю, но мы — не те, с кем вам надо бороться… Сейчас почти восемь вечера, приём посетителей окончен. Вы не работаете в этой больнице и должны уйти. Если хотите, можете прийти за своей победой завтра утром. Начиная с восьми утра.
Дежурная сдержала слово; через несколько дней шестилетнего Квези Овусу-Боатенга, окончательно выздоровевшего, выписали из больницы.
Писатель, поэт и врач-онколог Александр Стесин, эмигрировавший в США подростком, в 2010 году отправился в Гану по программе «Врачи без границ». Так начался его многолетний роман с Африкой: Стесин побывал в Гане, на Мадагаскаре, в Эфиопии, Мали, Кении, Танзании и ещё десятке других африканских стран. Где-то — как врач, сталкивающийся, с одной стороны, с тяжёлыми условиями африканской медицины, с другой — с тем же самым человеческим страданием, универсальным для всех континентов. Где-то — как турист, посещающий памятники Тимбукту и деревню догонов (хранителей древних астрономических знаний), ночующий в пустыне под открытым небом и пробующий самые экзотические блюда континента. Везде — как исследователь и писатель: книга Стесина — конгломерат повестей, раскрывающих поразительное разнообразие Африки, отличие её подлинной повседневности от стереотипных представлений. Из «Африканской книги» мы узнаём об особенностях культур и языков, но едва ли не самое важное соприкосновение с Африкой — литературное: Стесин учит языки чви и суахили, переводит эфиопского классика Данячоу Уорку или мадагаскарского национального поэта Жан-Жозефа Рабеаривелу, полностью отдаваясь во власть чужой стилистики. Стесинская проза далека от приключенческого жанра — но она показывает, что может сделать с человеком путешествие, как оно его воспитывает. Рефлексия очень требовательного к себе писателя-путешественника, попавшего в невероятно интересный, открытый для изучения мир, который всё-таки не может быть окончательно своим, — сквозной мотив книги Стесина. — Л. О.

Эдуард Лимонов. 2019 год
Эдуард Лимонов. Старик путешествует (2020)
Зависть присутствовала во время моего путешествия по ступеням острова Капри, это точно. Я в ней не каюсь, так как убеждён, что я больше заслуживаю этих пейзажей, чем все их владельцы.
Последняя книга Эдуарда Лимонова — сборник воспоминаний под прикрытием путевого дневника. Случайные «вспышки сознания», пребывающие по замыслу автора в хронологическом беспорядке, привязаны здесь к конкретным географическим координатам: Харьков, Париж, Рим, Улан-Батор, Нью-Йорк, Москва. Получилась не история жизни — скорее карта.
Лимонов увлечённо документирует поездки, совершает экскурсы в этнографию, политику, историю, но по большому счёту его интересует не само место, а собственная фигура в новом контексте. Вот Лимонов-воин в окопах Нагорного Карабаха: «Земля и города на ней принадлежат тем, кто их захватил. Тем, кто их захватил, следовательно, они были нужнее, чем тем, кто их оставил. — (Я — кто ещё способен на откровенное воспевание силы…)» Вот Лимонов-любовник с молодой подругой в Люксембургском саду Парижа: «Сад замусорен людьми. Не в том смысле, что люди оставляют мусор, а в том, что валяются, как мусор, повсюду. Я ревную Люксембургский сад ко всем этим толпам». Вот Лимонов-писатель на встречах с читателями в городах Италии: «Я сказал, что доверять никому нельзя, и русским тоже. Но что у нас нет общей границы, и это отлично!» Автор «Старика» то и дело противопоставляет себя туристу: он — не обычный путешественник, для него всё чужое — заведомо своё. Этот дух противоречия можно уловить и в судьбе самого текста: посмертная книга о странствиях Лимонова вышла как раз в то время, когда весь остальной мир был вынужден сидеть по домам.
В предисловии к «Старику» Лимонов пишет, что в поездках последних лет искал свежих ощущений («хотел полностью заменить себе сознание»), а ещё — эффектной и быстрой смерти («как же ему умудриться умереть, чтоб все запомнили и это был бы сигнал остающимся?»). Ни того ни другого он не нашёл. Жизнь, как ни странно, шла своим чередом — шальная и одновременно тоскливо-скучная, бесстрашная и в то же время болезненно уязвимая. Путешествия не стали для писателя ни началом, ни концом — лишь естественным продолжением жизни, сумевшим, однако, примирить друг с другом все крайности, примирить человека с самим собой. — П. Р.








Комментарии
Отправить комментарий